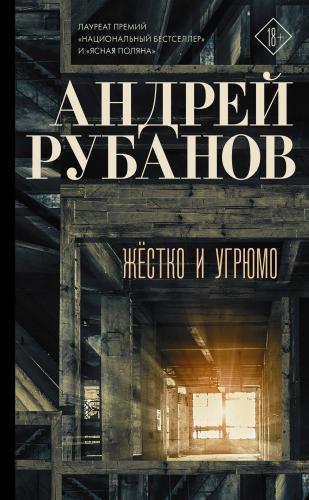Я вернулся в дом; там был угар, чад, газовая камера. Трещины, может, и сузились – но не исчезли.
Наверное, отец угорел, – подумал я. Печь всю зиму оставалась теплой. На ночь протопил – утром тут же загрузил новые дрова. Отрава копилась под потолком. Ежедневная небольшая доза угарного газа, каждый день – чуть бо́льшая. Не замечал её, привык. Запах дыма от хороших берёзовых дров часто бывает даже приятен. Гарь и сажу тоже не замечал, слишком мало света – старики не любят яркого света. Каждый день чёрное, ядовитое подступало ближе и ближе. Отмывать, чистить – не было сил. Друзей и подруг нет. Некому было сказать – остановись, рядом с тобой сгущается твоя гибель.
Может быть, ему говорили. Знал. Сам её приближал.
Кочергой протолкнул пылающие головни и подбросил свежего. Решил поберечь куртку: пропахнет – неделю буду отстирывать; надел телогрейку покойного. Потом подумал – жена увидит, опять заплачет. Снял отцову вещь, надел свою.
Последний раз они виделись пять лет назад. Папа обвинил дочь в безбожии, легкомыслии и безнравственности. Выгнал. Потом – только присылал записки, sms. Последняя – отправленная три недели назад – содержала цитату из Иоанна Кронштадского: «Любить Бога – значит, ненавидеть себя, т. е. своего ветхого человека». Я подумал, что нельзя теперь выйти к жене в рубище с драными локтями, ветхим человеком.
Может быть, он пытался договориться с тем ветхим парнем внутри себя, – но не смог, ветхий победил, обветшание тела перешло в обветшание дома?
Когда в третий раз натолкал дров и выскочил под чёрное ясное небо – потерял сознание, очнулся на снегу, боком, в правом ухе таял снег.
Дым валил из трубы, из раскрытого кухонного окна, – я проиграл, ветхое победило.
Поспешил встать – жена увидит, напугается до смерти.
Кое-как набрал в колодце воды, аккуратно залил печь.
Приехавшие родственники застали меня сидящим в углу кухни, в облаках серого пара, с чёрной кочергой в чёрной руке.
Печь шипела, как сто змей в десяти змеиных гнездах: проклинала меня, или убитого ею предыдущего владельца хижины, или нас обоих.
Поздним вечером, в гостинице, смыл с себя копоть и подержал в руках фотографии. Чёрно-белый отец – широкогрудый, в русой бороде – выглядел браво, улыбался, прижимал к себе дочерей. Ветхого человека, сидящего у него внутри, ждущего своего часа, когда можно будет начинать ненавидеть себя, свой быт, свой бренный телесный смрад, – я не разглядел, хотя смотрел внимательно.
Реальный бродяга
Он заехал в самом конце зимы. Или, может, в марте.
В тюрьме лучше не следить за календарём. Дни и месяцы похожи, время летит быстро – зачем подгонять?
Он заехал – и уже на третьи сутки всем надоел.
Его звали Заза. Родом из Осетии.