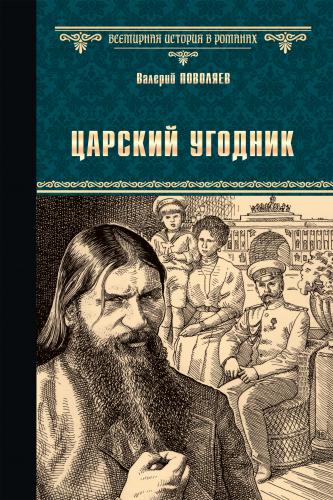В длинной темной комнате, отмеченной Вырубовой, сели обедать и на этот раз: отец Распутина самолично приготовил уху – терпкую, густую, с перцем и лавровым листом, крепкую, как спирт.
– Ешьте, дамочки! – поклонился он столичным гостьям. – У себя в Питербурхе вы такую уху не попробуете!
– Совершенно верно, – согласилась с ним Эвелина.
Прошел день. 28 июня утром Распутины – отец и сын – собрались на завтрак. Завтракали вдвоем – женщины успели поесть раньше.
– Ну, чего там, в столице? – спросил отец.
Это он сейчас, наедине с сыном, был разговорчив, а когда Григория окружали женщины, все больше молчал – замыкался в себе, как темная ракушка, задвигал створки – и на вопросы почти не отвечал, хотя старался быть гостеприимным. В день приезда вон какую уху спроворил! Правда, один раз, разозлившись на сына, он бросил угрюмо: «Будешь докучать – в тайгу уйду!»
– А чего в Петербурге? Да ничего! Петербург цветет и пахнет! – Григорий подцепил вилкой кусок телятины, осмотрел.
– Чего смотришь? Еда – высший сорт.
– Петербург тем хорош, что в нем много ученых людей. Один ученый муж рассказывал, что пока теленок либо поросенок находится в брюхе у матки, то собирает все яды. В организме, отец, полным-полно ядов, и все куда-то деваются – одни с мочой выходят, другие с этим самым. – Распутин легонько хлопнул себя по заду. – Но если в матке заводится детеныш, то детеныш все это вбирает в себя. Сказывал этот муж, что молочной телятиной можно отравиться.
– Дурак он, твой муж, – угрюмо пробормотал отец, – и Петербург твой – город дурацкий, если в нем такое дубье водится!
Распутин на гнев отца не обратил внимания, сказал:
– Кому дурак, а кому не очень. Я, например, этого человека уважаю.
– Твое дело! Вот скажи лучше, что про войну талдычат?
– Войны не будет! – твердо произнес Распутин.
– Врешь ты все!
– Тогда зачем спрашиваешь, если я вру?
– Война по небу носится, ее, как ворону, уже стрелить можно.
– Ну и стрельни, чтобы ее не было. Ты ведь не за войну?
– Сдурел, что ли? – Отец пожевал губами, выдернул изо рта гибкий, будто тростинка, рыбий хвостик. – Все же интересно знать, что в Петербурге по этому поводу думают.
– Я же сказал – войны не будет!
– А ты, Гришка, совсем в столице мохом покрылся – вроде бы лощеный сверху, в красной рубахе, в ухо золотую серьгу вставил – пусть, мол, поблескивает, – а нюха никакого нет. Ты эту серьгу лучше в нос вставь, чтоб чутье появилось. А то у тебя ноздри дюже туго забиты. И уши забиты – не слышишь ни черта!
– Это не серьга, – спокойно сказал Распутин, сдернул с уха блестящее сердечко, – это с зажимом, как ее… ну как штрипка, чтобы белье вешать. Для серьги дырка нужна. Дырку колоть я не намерен.
– Совсем цыганом стал! – недовольно проговорил отец.
– Если