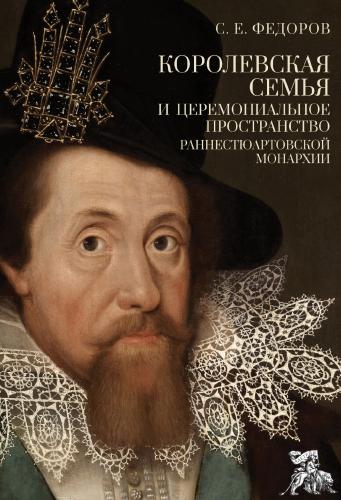Практическое господство папства над сферой мирского, как известно, определялось доктринальным подчинением философии теологии. Лежавшее в основе представлений об иерархическом единстве христианской мудрости, оно, тем не менее, строилось на весьма тонком и на практике почти неразличимом видении двух различных состояний близости с основным познавательным идеалом. Философия, как известно, развиваясь, возвышалась до рассмотрения Бога, а теология, осваивая ее знания, непосредственно касалась наивысшего. Возникающее при этом ощущение самодостаточного характера философских знаний и опыта без последующих теологических обобщений могло вполне не подразумевать обратного. Потенциально возможный, а, в конечном счете, неизбежный разрыв единства христианской мудрости предопределял последующее разрушение иерархического строения «республики верующих».
Подобные противоречия, заложенные в представлениях о границах светской и духовной власти, с одной стороны, способствовали постепенной девальвации христианского учения о государстве с его трехуровневой системой властных отношений. С другой – на фоне сближения имперского и монархического дискурсов определяли закономерную концептуализацию идеи светского государства во всех ее мыслимых вариантах: универсалистском, национальном и, наконец, в интересующем нас – композитарном.
На исходе Средневековья представления об имперской власти по-прежнему ограничивались характером и объемом ее верховной юрисдикции. Используемые для этих целей определения и оценки, по большей части, восходили к наследию глоссаторов XI–XII века и, оставаясь явлением достаточно поздним, были лишены последовательной систематизации.
Исходными в определении объема имперской юрисдикции, как правило, считались две фразы Ульпиана (Dig. 1.IV.1; Dig. 1.III.31), обраставшие в последующих комментариях многочисленными смысловыми интерполяциями и уточнениями. Одна из них: «то, что решил принцепс, имеет силу закона», характеризуя роль императора в созидании потенциально возможной системы права, вызывала ассоциации с более поздним пониманием фундаментальной власти (сначала «imperium», а затем «auctoritas»). Другая: «принцепс свободен от соблюдения законов», конкретизируя его положение в уже действующей системе законодательства, увязывалась с обычно парным и в позднейших комментариях менее значительным по компетенциям определением «potestas».
Отталкиваясь от подобных ассоциаций средневековые глоссаторы (Плацентин и в особенности Аккурсий) с самого начала модифицируют свойственные римскому праву представления о верховной власти императора[25]. Продолжая разделять характерное для римских юристов мнение о делегированной природе имперских полномочий, они минимизируют возможные условия их отзыва до чрезвычайных.