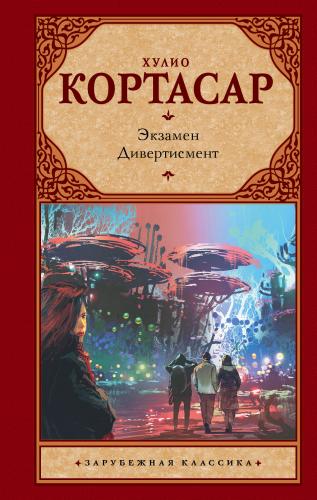– Смотри, что стало с площадью Двадцать Пятого Мая, – сказал ему Андрес многозначительно. – Помнишь, какая она была, эта площадь?
– Конечно, помню, – сказал Хуан. – Ничего не оставили. Спасибо еще, молочные бары не тронули. А придет кому-нибудь в голову, что молоко неприлично, прикроют и эти.
– А оно неприлично, – сказал Андрес. – Не в такой, конечно, мере, как гелиотропы, те вообще – фаллические символы. Девочки, на углу выходим.
– Выходим, – сказала Клара. Ей трудно было продвигаться из-за Стеллы. «Просит дорогу тоном монахини-послушницы, чудом оказавшейся на арене для боя быков, – подумала Клара. – В трамвае, если не умеешь работать локтями, учись управлять людьми голосом». Через голову уборщика она передала Хуану пакет с капустой и вышла из трамвая; Стелла – за ней. Когда Хуан был уже на подножке, трамвай рванул и стал заворачивать на улицу Коррьентес. Коррьентес была залита светом; в двух шагах от уничтоженного бедного китайского квартала весело начинался добропорядочный город для добропорядочных семейств: красный колпак почтового ящика, маленькое кафе, мягкий тобогган, который унесет тебя к луна-парку и принесет столько захватывающих дух впечатлений, сколько монет ты отвалишь за это удовольствие.
Репортер слушал «London again»[12] и вспоминал множество милых его сердцу вещей – от лавандового лосьона до мелодий Эрика Коутса. Аппарат «вюрлитцер», предмет эсхатологический, таил в себе угрозу самб и матчишей, и потому репортер предпочитал сидеть рядом с ним в ущерб собственным барабанным перепонкам и бросать в щель новые и новые монетки, чтобы выдавал только «London again» и еще простенькое танго —
Какою, Милонгита, ты была в расцвете,
Фартовее девчонки я не встречал на свете —
с проигрышами в левой руке, а из-под вздохов мехов – отрывистые звуки рояля, четкий ритм; репортер взмахом пальца ответил на приветствие, посланное ему издали Андресом Фавой, который появился с подружкой и еще одной парой (кажется, это были Хуан с Кларой), а сам продолжал размышлять в духе Хуана Д’Арьенсо над требованиями пианолы, канарейки, соловья…
А ИМПЕРАТОР УМИРАЛ (по вине соловья, вот именно, сеньор).
– Разменяйте мне песо на монетки по двадцать, – сказал репортер. – Если этот негр с грязными глазами захватит «вюрлитцер», готов поклясться, он поставит чамамес[13]. Их три в репертуаре да еще чакареры. «Ненавижу фольклор, – заверил он себя. – Фольклор мне нравится только чужой, другими словами, свободный и для меня необязательный, не тот, что навязывает мне зов крови. Вообще зов крови тошнотворен. Сейчас опрокинут по рюмашке – и пойдут разговоры. Если бы один Андрес, а то еще с женой, а она чудовищна. Что же поставить?» Список был длинный, в две колонки. Он выбрал пластинку «One O’clock Jump»[14]. И тут подошли Хуан с Кларой.
Андрес