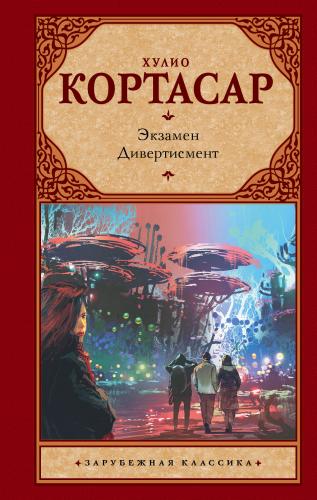– Дорогой репортер, ты, я вижу, заинтересовался не на шутку, – сказал Андрес. – Ну что ж, я, пожалуй, помогу тебе. Итак, я не был скороспелкой, однако отважно принялся писать о вещах, о которых сейчас не отважился бы говорить. Интересно, что я писал языком фальшивым, ханжеским, без единого непристойного словечка. Персонажи говорили правильно, как в книжках, а действие всегда происходило anywhere, out of Buenos Aires[44]. Уму непостижимо, до чего я тяготел к глобальному и приходил в ужас от одной мысли написать что-нибудь конкретное об окружающей жизни; я старался, чтобы мои стихи – да, Хуанчо, именно тогда я разразился жестокими сонетами – и мои рассказы были одинаково понятны как в Упсале, так и в Сарате. Язык был дурацкий, однако то, что я пытался с его помощью выразить, обладало большей силой, чем то, что я пишу сейчас.
– Ты глубоко ошибаешься, – сказал Хуан. – Но продолжай, посмотрим, какой путь ты прошел.
Андрес сидел, опершись затылком на спинку скамейки, и курил.
– Иногда, – продолжал он, – хлесткий детерминизм бьет по струнам и рикошетом в кровь разбивает тебе лицо. Например, я до двадцати пяти лет испытывал подлинное творческое горение. Нельзя сказать, что я писал много по объему; но я без конца отрабатывал, тщательно отделывал свои вещи. И все равно я тогда писал больше, чем за всю дальнейшую жизнь, и теперь, перечитывая, вижу, что шел правильным путем. Я лез во все, перевел понапрасну горы бумаги, но сегодня мне бы не хватило духу сказать некоторые вещи или таланта, чтобы написать хотя бы один сонет, подобный тем. Мне просто нравилось писать, я получал наслаждение. Сладостное мучение, похожее на то, когда чешешь место, которое чешется, расчесываешь до крови, но получаешь удовольствие.
– И почему же источник иссяк? – спросил репортер.
– Влияния и предрассудки под личиною опыта сгубили его. Плохо, что они были необходимы и выглядели благими. Но в конечном счете благо, что они подействовали на меня плохо. Это нелегко объяснить, но я попробую. У меня было двое друзей, которые меня очень любили и, наверное, поэтому почти никогда не хвалили моих вещей, а, наоборот, сурово и самоотверженно критиковали их. Я никогда не ждал от них восторженных оценок. Они отмечали все погрешности моего пера, указывали на все ненужное и считали, что мой долг – исправлять. И это вынудило меня – из верности нашей дружбе и благодарности – привернуть кран, оставить лишь тонкую струйку. Несколько дней и ночей я перелопачивал написанное, чистил, вылизывал и перетряхивал, пока не начинало вытанцовываться то, что можно было оставить. Да еще чтение: именно в ту пору я первый раз прочитал Кокто, мне было девятнадцать лет, и я просто бредил «Опиумом». «Opium». Сейчас я произношу название по-французски, но тогда это мне было не по карману, я достал дешевенькое испанское издание. Ты не представляешь, чем был Кокто для меня. После «Илиады», моего первого рывка к абсолюту, вдруг погрузился в Кокто. Просто невероятно, я неделями не причесывался, дошел до того, что сестра и мать стали называть меня идиотом, я забивался