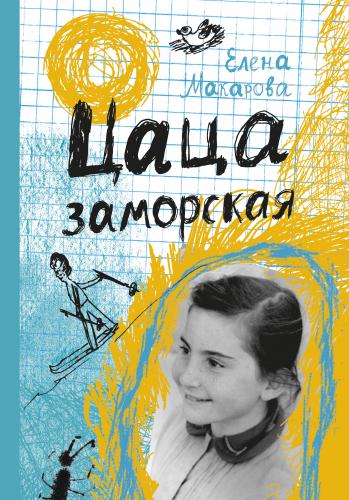В раздумьях о давно созданном я достала чемодан с веселыми детскими письмами. Я посылала их родителям из больниц и интернатов. Будучи маленькой девочкой, я чувствовала зыбкость их отношений и понимала, что они терпят друг друга из-за меня; значит, я должна их постоянно радовать, и тогда они не разведутся.
Как видно, я перестаралась. Перечитывая папины письма, обращенные к его родителям, я с удивлением обнаружила сообщение о том, что «Лена подружилась с девочками из интерната, что ее приняли в пионеры и что галстук ей повязал какой-то комсомольский вожак». На самом деле меня не приняли в пионеры за то, что я прикоснулась к святому паровозу, на котором Ленин прибыл устраивать революцию, за что мне в палате устроили темную, закатали в одеяло и душили; папа меня нашел в изоляторе. «Какие хорошие девочки, позаботились о тебе», – сказал папа, и я потеряла дар речи. Не навсегда, понятно.
В детстве я расспрашивала старых людей, что они поняли про жизнь. Ответы были неутешительными. Как же так, думала я, человек вот-вот умрет и не знает, что такое жизнь; что же делать? Мне было жаль взрослых. И себя, разумеется. Ведь и мне предстояло стать взрослой.
В «Рыжем муравье» маленькая девочка пытается понять, куда она попала, что это за мир такой, где взрослым не слишком-то уютно. «Цаца заморская» развивает эту тему недоумения. Вот уже полвека как я считаюсь взрослой, а недоумение так и не проходит. Зачем взрослые воюют, зачем взрослые постоянно унижают друг друга, и т. д. Дадаисты ответили бы на это – «НИЧЕВО», а я по глупости вопрошаю: зачем?
Зададим умный вопрос: зачем автор, то есть я, включила в этот сборник детские письма и дневники? Что они, собственно, добавляют к литературе, да простят мне дадаисты это слово?
«НИЧЕВО» или все-таки «ЧЕВО»?
Не знаю.
Но одним я точно могу вас порадовать: я оправдала доверие больничных подруг, выполнила практически все их пожелания пятидесятилетней давности. То есть и тут я оказалась хорошей девочкой, коей всегда хотела быть.
Галя Мартынова пожелала мне 7 мая 1964 года «попасть в литературный институт, и через годы ученья стать писателем, и написать книгу о Туристе». Выполнено. Далее она пожелала: «Найди себе мужа и не заглядывайся на других мужей, запомни, что ты замужем. Когда вырастешь, не кривляйся, не очень красься». С этим тоже справилась. И последнее: «Живи долго-долго, и пускай у тебя будет большая крепкая любовь». Живу порядком, «большая и крепкая любовь» не оставляет. К миру, во всяком случае.
Пожелания Полины Крупицкой от 10 мая 1964 года я выполнила практически на все сто процентов: «Леночка, я хочу, чтобы ты была счастливая». Да. «Чтобы ты была довольна жизнью, и чтобы ты никогда не делала грубых ошибок». Начет грубых ошибок не знаю. Все-таки были. «Выходи замуж не раньше двадцати лет, и так чтобы потом не приходилось плакать и каяться. Пусть у тебя будут два ребенка, мальчик и девочка, и чтобы мальчик был старше девочки. А когда ты будешь уже старенькая, пусть у тебя будут хорошие милые внуки, в которых ты не чаяла бы души». Все без единой ошибки.
Остальные пожелания варьируют те же темы.
И еще одна важная вещь: меня многие спрашивают про дальнейшую судьбу тех, кто описан в книге. Могу вас разочаровать: герои литературных произведений живут лишь в пределах книги. Разве что прототипы продолжают свое существование за пределами текста. Но прототип – не персонаж, автор лишь опирается на реальный образ. И все же судьба некоторых прототипов мне известна. Внутренне мало кто из них изменился. Детские лица все так же глядят сквозь морщины времен.
– Эй, мамбо, мамбо итальяно…
Желтая пыль с песком клубится за проезжающим мопедом.
Каждое утро, когда бабушка с тетушкой отправляются за молоком, Толик заводит мопед и проносится мимо них с выкриком: «Эй, мамбо, мамбо итальяно…» Мопед тарахтит, бабушка чихает, отмахиваясь от желтой пыли, а тетушка останавливается, снимает пенсне и, протирая стекла носовым платочком, произносит:
– Какое убожество мысли!
– Хулиган! – вздыхает бабушка. – Что сделаешь с ребенком, если он уже хулиган.
– Местность богата членистоногими, – говорит тетушка, как бы оправдываясь за то, что ей уже второй год приходится молча сносить пыль и треск от ужасного мопеда. – О таком сосредоточении инсектов нельзя и мечтать.
При слове «инсект» мы с бабушкой замираем. «Инсект» – значит попросту «насекомое». Тетушка целыми днями сортирует инсектов по коробочкам. Коробочки изнутри отделаны черным бархатом. Я боюсь входить в ее кабинет – он окутан дремучей тайной и вызывает не любопытство, а страх.
С самого утра жара стоит невыносимая. У бабушки голова обвязана белым ситцевым платком, а на мне – панамка с отворотами. Я ее ненавижу.
– Тебе в голову ударит солнце, – говорит бабушка, – и будет большое несчастье.
– А что будет? – спрашиваю я.
– То и будет, – объясняет бабушка.
И я, представляя, как