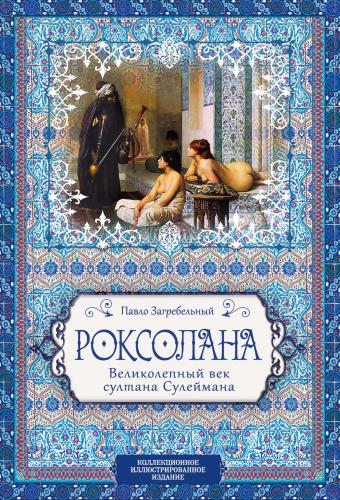Были положены на траву стамбульские ковры – как дым, как туман, как мгла над Босфором. Гибкие стебли, зубчатые листья, лотосы, розы, тюльпаны, гранаты. Ступили на ковры маленькие ножки, закружились в танце гибкие фигурки. Султан, незаметный за густыми кафесами кьешка, одиноко наблюдал за этим праздником красоты, который предназначался лишь ему одному и все равно не мог утешить его, затянуть его рану, исцелить от неожиданного недуга, насланного какою-то злой силой, отдававшего эхом голоса, загадочно непостижимого. Ему надоели танцы, и он махнул рукой кизляр-аге, требуя песен. Но и песни не принесли утешения, и Сулейман хотел уже гневно прервать забаву, как внезапно послышалось ему нечто словно бы знакомое, к голосу, мучившему его вот уже столько времени, присоединился голос, словно бы похожий, вот они слились – уже и не различишь, где какой, – и повели турецкую песню, и не из тех, что должны тешить султанское ухо, а дерзкую, почти грубую, с недозволенным намеком:
Бир далда ики кирез,
Бири ал, бира бейаз.
Эсмерден арзум алдын,
Сарамадым бир бейаэ[95].
Пела та неприметная славянская девчушка, которая когда-то поразила своим пением султана так, что он опустил ей на плечо кисейный платочек, но о которой забыл сразу же после того, как подержал в объятиях. Но ведь пела тем самым голосом, что мучил Сулеймана днем и ночью повсюду. Какое-то наваждение. Он нарушил обычай и, подозвав кизляр-агу, сказал мрачно:
– Пусть та замолкнет!
Кизляр-ага метнулся выполнять повеление. Но когда вернулся, его ждало повеление еще более мрачное и гневное:
– Почему она замолкла? Пусть поет!
Теперь уже не различал слов, слова не имели значения – слушал только голос, узнавал его, удивлялся, не верил и в то же время ощущал радость исцеления. Вышел из кьешка, явился пред очи одалисок, взял у кизляр-аги прозрачный платочек, и повторилось то, что было весной, – платочек лег на худенькое плечо золотоволосой Хюррем, и от веселого маленького личика, поднятого к султану, словно бы посветлело его хмурое лицо.
И снова нарушил обычай султан, сказав при всех: «Вернешь сегодня мой платок». И сказал это не кизляр-аге, а Хюррем, так что Гульфем аж зашипела от зависти, а Кината зацокала языком, как цикада.
Сулейман милостиво взмахнул рукой. Отпускал всех или гнал от себя? Пока отпускал и Хюррем, которую должны были приготовить для ночи, приготовить рабыню для рабской ночи. Мама, пусти меня в детство, мамуся, родная! Стоял над нею повелитель в золотой чешуе, одеревенело выпрямленный, точно пораженный столбняком. Когда водили ему в ложницу Гульфем, когда катался на барке с одалисками, тогда не звал ее, не помнил о ней. А она? Ждала его зова, как пес свиста, или проклинала свое ожидание? Ведь стала как все. Выбраться из рабства через рабство, еще большее, еще более безнадежное? Как все? Неправда! Должна всех превзойти и победить! Разве не превзошла уже сейчас, лишь дважды явившись пред султановы глаза и завоевав его проклятый платок?
Хюррем