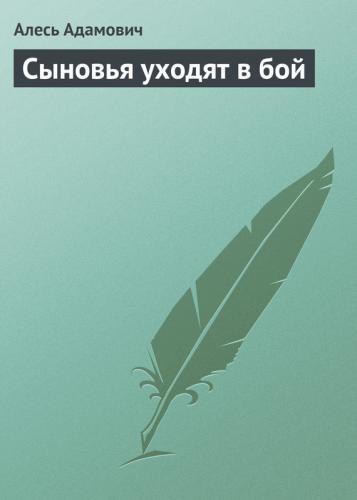Никого мать не спрашивает, но почти все, кто появляется в лагере, спешат сообщить что «видели», что «недавно», «может, двадцать минут». А до Низка самое малое пять километров.
Вечерело. Неуютно, тревожно становилось в лесу. Все ушли к «круглой» поляне, навстречу отряду. Толя хотел, чтобы и мать пошла, он готов был подежурить за нее при санчасти. Но его не поняли.
– Иди же, – строго и как бы обижаясь за Алексея, сказала мать. – Какие вы!..
… Паша ушла со всеми. И Толя. Надо и мне. А если они уже едут, везут: стриженая голова, бурые пятна крови?.. Всегда перед глазами тот сон. Еще дома были, только в партизаны собирались, приснилось: Алеша лежит на возу, голова острижена, в страшных пятнах… И что это вздумалось Алеше срезать волосы? Как увидела, будто ударило меня. Что это ему захотелось? Всегда так любил свой чуб, а тут – постригся. Все не могу забыть тот сон… Вот и у этого партизана, что один лежит под деревом, где-то кто-то есть. И не знают, что он лежит… Последнее время я часто вижу их – чужих матерей. Будто сижу я на вокзале, совсем-совсем старая, а Алеша, Толя совсем еще дети, и их нет возле меня. «Мы на перрон», – и убежали. Тихо, очень тихо, поезда за окнами проносятся, странные, беззвучные. Надо позвать детей, а я не делаю этого, сижу и смотрю в окно, на перрон, на мчащиеся поезда. А ко мне подходят женщины: «Моего сына не видели? Если увидите…» И не договаривают. А я осматриваюсь, ищу сыновей, а поезда проносятся мимо пустого перрона…
V
Как всегда после боя, люди долго не ложились спать, хотя и устали. Будто понял каждый, как это много: говорить, двигаться, смеяться. В соседних буданах-землянках тихо поют. Разванюша взял гармошку, оставшуюся от Пархимчика – убитого в Протасовичах парня, – и стал тихонько подыгрывать поющим: «Ле-етя-ят у-утки…»
– Вашкевич любил песню эту, – сказал Головченя и быстро поправился: – Любит.
Казалось, все посмотрели на Застенчикова, а у Застенчикова вид испуганно-сердитый, жалкий.
Когда кончили «Вашкевича песню», Носков неожиданно потребовал:
– Саратовские.
– Да ну тебя, Николай, – возмутился Сергей Коренной, – танцы давай открой.
А Носков уже завладел Разванюшей: стоит перед ним, будто отгораживая от всех. А Разванюше все равно: припевки так припевки.
Носков слушает, сегодня для него и припевки – протяжное, грустное. Это же его Волга. Смотрит на всех и вроде просит: «Ну, хлопцы, хорошо ведь!»
Толя уже знает, что здесь у каждого своя песня. И другие помнят – чья какая. До войны, бывало, грибники-пацаны высвистывали каждый свою мелодию: «Сулико», или «Три танкиста», или «Кирпичики» – это чтобы не аукаться и знать, где кто. Вот так и здесь – у каждого своя.
– Хлопцы, – вспоминает Молокович, – Жорка-десятник все пел: «Не для меня придет весна…»
Поют, и будто ты в чем-то виноват, и печаль в тебе оттого, что не знал любившего эту песню человека и он не знал тебя.
А потом – Зарубина песню. Про сибирскую даль, про партизанскую старушку. Когда за стенами