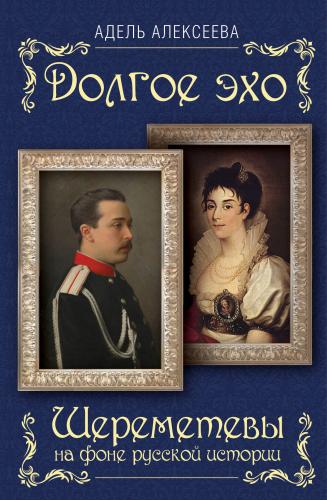– Каково чувствуешь себя, Борис Петрович? Отчего кручинуешься? – спрашивала жена.
– Кто близ трона, того всегда заботы гложут, – отвечал он.
– На душе-то тягость? – жена заглядывала в глаза.
– Будто камни лежат за пазухой…
– И-и-их… Батюшка! – вступала теща. – К чему печаловаться? Гляди-ко на небушко – солнце как на Масленую играет. – Одетая по старинной моде, в душегрейку и широкую юбку, она отыскала в юбке карман и вытащила табакерку: – На-ко, понюхай! Чихнешь от души – и все мысли дурные выскочат.
Тещу свою граф любил, однако пускаться в разговоры о том, что его угнетало, не собирался. Даже Аннушке – пусть она и ладна, и стройна, и умна, а он – старый медведь, – велел отправляться с детками к невестке погостить.
Граф любил одиночество, особенно ежели на душе лихо, и считал: породным, именитым не к лицу жаловаться. Хотелось ему знать, что в Кремле, в Лефортове творится, мог пойти туда в любой час – был в числе двух-трех человек, которым разрешалось без докладов входить к государю, – однако что-то удерживало его. Неужто Петр мог усомниться в приверженности его к Европе? Он еще за двадцать лет до Петра, живя в Киеве, имел склонность к иноземным нравам. Однако и народные обычаи ревностно хранил, знал и пел русские песни, завел свой хор из малороссиян. Что касается немцев в Москве, то без надобности не бывал в Немецкой слободе, но и московской грязи и бескультурья не терпел. Многих тогда удивляло его чисто выбритое лицо, иноземное платье. Вместе с тем вызывало уважение простое обращение, приветливость, манеры. Встретит офицера, с которым служил где-нибудь под Лесной, остановит карету, выйдет, немалое время проговорит, вспоминая минувшие дни, а то и зазовет к себе.
Москва была его родным домом, местом отдохновения. В Санкт-Петербурге от сплетен придворных да церемоний уставал, как от немецких туфель, а в душу заползала тоска, или, как говорили тогда, «милаколия». В те смутные дни, когда завертелось-закружилось царевичево дело, тоже владела им меланхолия. Грызли мысли о бренности жизни, о старых товарищах, которых уж нет, и о тех, кто есть, но не кажет носа.
Скончался Федор Алексеевич Головин, а какой умный, рассудительный был человек, к тому же сват родной! Он бы поддержал нынче добрым советом, мог и царю слово замолвить. А чувствовал Борис Петрович, что не держит более государь его в своем сердце, затаил подозрение. Бедный Федор Алексеевич! На царском пиршестве принудили его съесть что-то не по своей воле, и скончался…
Апраксин Федор Матвеевич – тоже доброго нрава человек, адмирал. Неторопливая речь его, разумные доводы, спокойные беседы действовали на Бориса Петровича лучше всяких лекарств. Не особо породный дворянин, но как желал бы свидания с ним Шереметев!
Брюс Яков Вилимович – человек умнейший, особенный. Гору книг перечитал, чудесные явления объяснять может, беседовать с ним – полное удовольствие, сочинил «Юности честное зерцало» – руководство для отроков. Лицо у Брюса круглое, добродушное, но воля