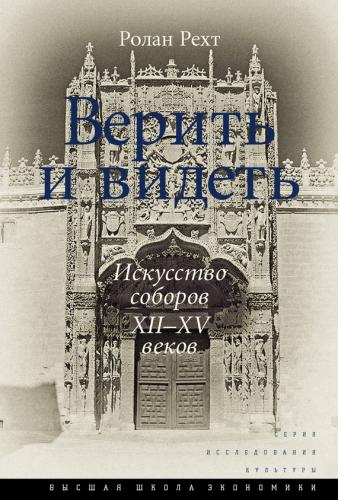Предпринятая Шапиро реабилитация «фона в качестве поля» связана с модернизмом, крупным течением в американской живописи после Второй мировой войны, о котором во Франции заговорили в 1970-х годах, тогда же, когда перевели его работу; точно так же «принцип амбивалентности», основываясь на котором, Ригль видел в «позднеантичной художественной индустрии» оптический переворот в соотношении фона и фигуры, мы найдем в живописи, скажем, Густава Климта. Эта проблема – хотя и не она предмет нашего исследования, – несомненно, проходит лейтмотивом во всей истории современного искусства, начиная с постимпрессионизма, нам она интересна в той мере, в которой она повлияла на теоретические позиции историков искусства и на вызванные этими позициями дебаты.
Для Ригля и его последователей соотношение фигура/фон – одновременно проблема стиля и пространства. Завоевывая пространство, точнее, овладевая широким полем восприятия, современный сюжет использует в этом движении все возможности стиля. Для Фосийона формы, обретаемые фигуративной мыслью, всегда определяются некой «грамматикой», логической структурой, указывающей им их местоположение[14]. В отличие от немецких и заокеанских историков искусства он ориентировался не на психологию восприятия. Фосийон рассматривает конкретное произведение как идею, выраженную в податливой материи, и, как всякая идея, она нуждается в «словаре», «синтаксисе», «грамматике», иногда она может становиться «диалектической», иногда «силлогизмом». В разработанных им концепциях «пространства – среды» и «пространства – границы» термины «среда» и «граница» говорят об отношении пространства к форме. Здесь нет никакой нерешительности, никакого переворота в паре фигура/пространство: всякая форма исходит непосредственно из сознания, а «пространство – фон» рассматривается лишь в рамках оказываемого им на форму воздействия, словно подмастерье. Понятно, почему