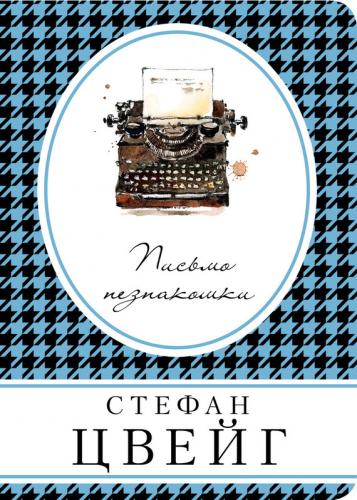Но ты не вышел. Не вышел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру и в изнеможении упала на какой-то тюк. От пройденных мною четырех шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но, невзирая ни на что, во мне ярче и ярче разгоралась решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Клянусь тебе, ничего другого у меня и в мыслях не было, я еще ни о чем не знала именно потому, что ни о чем, кроме тебя, не думала; я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть, почувствовать твою близость. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать легла в постель и заснула, я проскользнула в прихожую и стала прислушиваться, не идешь ли ты. Я прождала всю ночь, всю ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ломило, и не было даже стула, чтобы присесть; тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло из-под двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на жестком голом полу – я даже не завернулась в одеяло, я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, я судорожно поджимала ноги, руки тряслись; приходилось то и дело вставать, чтобы хоть немного согреться, так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу.
Наконец – вероятно, было уже около двух или трех часов – я услышала, как хлопнула внизу входная дверь, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром, я тихонько отворила дверь, готовая броситься к тебе навстречу, упасть к твоим ногам… Ах, я даже не знаю, что бы я, глупое дитя, сделала тогда. Шаги приблизились, показался огонек свечи. Дрожа, держалась я за ручку двери. Ты это или кто-нибудь другой?
Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала нервный приглушенный смех, шуршанье шелкового платья и твой тихий голос – ты возвращался домой с какой-то женщиной…
Как я пережила ту ночь, не знаю. Утром, в восемь часов, меня увезли в Инсбрук; у меня больше не было сил сопротивляться.
Мой