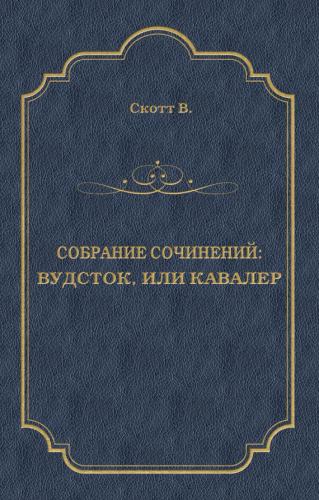– Ступай, милая Фиби, – зашептал Джолиф, так приблизив губы к ее щеке, что завитки ее волос зашевелились от его дыхания, – беги быстрее лани ко мне в хижину… я скоро приду… и…
– Еще чего! В твою хижину! – перебила его Фиби. – Больно уж ты бойкий… А сам в жизни никого не испугал, разве только старого оленя. Скажите пожалуйста! К нему в хижину! Только туда мне и бегать!
– Молчи, Фиби, молчи! Теперь не до шуток! Говорю тебе, беги ко мне в хижину быстрее лани, баронет и мисс Алиса там; боюсь, что сюда им больше не вернуться. Плохо наше дело, девушка, настали черные дни, положение у нас безвыходное, нас загнали чуть не насмерть.
– Может ли это быть, Джослайн? – вскричала девушка, в испуге повернувшись к егерю, от которого она до тех пор отворачивалась с чисто деревенским кокетством.
– Это так же верно, милая Фиби, как…
Конец фразы утонул в ушке Фиби – так приблизил к нему губы егерь, – и если они коснулись ее щеки, то горе и нетерпение имеют свои преимущества: юная Фиби была так сильно встревожена, что не возражала против подобной безделицы.
Но для индепендента прикосновение губ егеря к хорошенькой, хоть и загорелой щечке Фиби не было безделицей; до этого егерь внимательно следил за непрошеным гостем, теперь же тот заинтересовался поведением егеря и стал наблюдать за ним. Заметив, что Джослайн склонился к девушке, он заговорил резким голосом, до такой степени похожим на несмазанную ржавую пилу, что Джослайн и Фиби отскочили друг от друга футов на шесть. Если при этом присутствовал Купидон, он, наверно, пулей вылетел в окно. Томкинс встал в позу проповедника, обличающего порок.
– Как! – воскликнул он. – Бесстыдники, бессовестные люди! Подумать только! Предаются распутству прямо на моих глазах! Вы что же, собираетесь проделывать ваши штуки перед секретарем комиссаров парламентского верховного суда, точно вы в балагане на вашей нечестивой ярмарке или на богопротивном балу, где людей заманивают в ловушку, чтобы они безобразничали, пока негодяи музыканты пиликают на своих греховных инструментах: «Целуйтесь и милуйтесь, скрипач закрыл глаза…» Вот здесь, – он тяжело ударил кулаком по фолианту, – здесь царь и бог всех этих пороков и распутства! Здесь тот, кого безумцы кощунственно называют чудом природы! Здесь тот, кого знать выбирает себе в советники, а благородные девицы кладут под подушку. Здесь главный наставник, что учит обольстительным речам, фатовству и безрассудству. Здесь!.. (Он опять обрушил свой кулак на книгу, а это было первое собрание сочинений Шекспира, чтимое Роксбергом{77}, любимое Бэннетайном{78}, издание Хемингса и Кондела{79}, editio princeps[10])… Тебя, – продолжал он, – тебя, Уильям Шекспир, обвиняю я во всем…{80} в необузданном тунеядстве, сумасбродстве и разврате, что запятнали нашу страну.
– Тяжкое обвинение, клянусь мессой! – вскричал Джослайн;