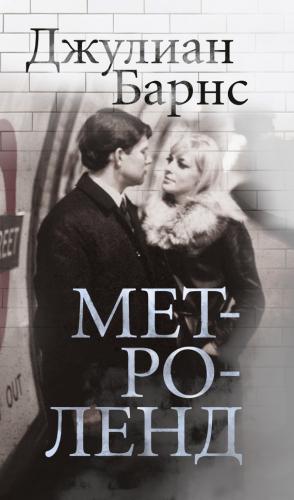Как видите, в те дни у нас было немало поводов для беспокойства. А почему нет? Когда же еще беспокоиться о действительно важных вещах, как не в ранней юности?! Мы с Тони вовсе не волновались за нашу будущую карьеру, поскольку знали, что к тому времени, когда мы вырастем, государство будет платить таким людям, как мы, только за то, что они существуют – просто расхаживают по улицам, как эти «бутерброды» с объявлениями и плакатами, и рекламируют хорошую жизнь. Нет… нас волновало совсем другое: чистота языка, самосовершенствование, предназначение искусства и плюс к тому некоторые абстракции, неосязаемые субстанции с большой буквы, как то: Любовь, Истина, Подлинность…
Наш блистательный идеализм вполне естественно проявлялся в форме воинствующего цинизма. Мы с Тони откровенно издевались над окружающими, причем из самых чистых – я бы даже сказал, искупительных, – побуждений. Мы избрали себе два девиза и руководства к действию: écraser l’infâme[3] и épater la bourgeoisie[4]. Мы восхищались gilet rouge[5] Готье и омаром Нерваля; нашей гражданской войной в Испании была bataille d’Hernani[6]. Мы распевали на два голоса:
Le Belge est très civilisé;
Il est voleur il est rusé;
Il est parfois syphilisé;
Il est donc très civilisé[7].
Последняя строчка приводила нас в полный восторг, и при любой возможности мы старались ввернуть какой-нибудь ненарочитый омофон[8] в наши с ним высокопарные диалоги на уроках французского. Сначала нужно придумать какую-нибудь совершенно бредовую, но грамматически правильную фразу с обязательным по-галльски презрительным замечанием в скобочках по-английски… что-то типа:
«Je ne suis pas, э-э… d’accord се qui, ce que? (нахмуренный взгляд в сторону учителя) Барбаровски – э-э… а juste dit…»[9],
а потом – прежде чем учитель успеет оправиться от расстройства, услышав такую вот идиотскую фразу, – кто-то из нашей группы заговорщиков, давясь смехом, должен вступить в разговор с репликой наподобие:
«Carrément, M’sieur, je crois pas que Phillips soit assez syphilisé pour bien comprendre ce que Барбаровски vient de proposer…»[10] –
и это всегда проходило.
Как вы уже наверняка догадались, мы с Тони так изощрялись в основном на французском. Нам нравилось, как он звучит: взрывные согласные и четкие, ясные гласные. И нам очень нравилась французская литература – из-за ее агрессивной воинственности. Французские авторы постоянно сражались друг с другом – защищали и очищали язык, устраняли сленговые словечки, составляли словари правильной речи, попадали под арест, их преследовали в судебном порядке за непристойное и непотребное поведение и высылали из страны, они настойчиво декларировали принципы Парнаса[11], отчаянно подсиживали друг друга в Академии искусств и плели интриги за литературные премии. Нас привлекала сама идея такого изощренного и бескомпромиссного буйства. Монтерлан и Камю были вратарями. Фотография из «Пари