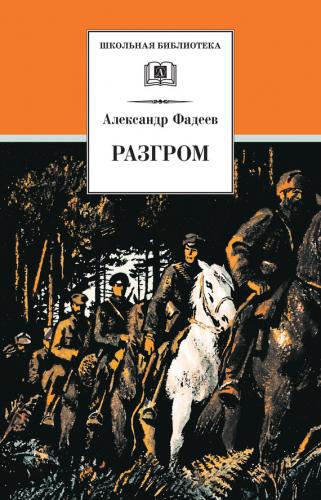– Добрая «литовка» была!..
– Мои-то – как там?.. – задумчиво сказал Рябец. – Управились, чи не? Трава нонче богатая – хотя б к воскресенью летошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта.
В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в длинных грязно-белых рубахах, некоторые с узелками – прямо с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, запахи дегтя и пота и свежескошенных трав.
– Здравствуйте в вашу хату…
– Хо-хо-хо!.. Иван?.. А ну, кажи морду на свет – здорово чмели покусали? Видал я, как ты бежал от их, задницей дрыгал…
– Ты чего ж это, зараза, мой клин скосил?
– Как твой! Не бреши!.. Я – по межу, тютилька в тютильку. Нам чужого не надыть – своего хватает…
– Знаем мы вас… Хвата-ет! Свиней ваших с огорода не сгонишь… Скоро на моем баштане пороситься будут… Хвата-ет!..
Кто-то, высокий, сутулый и жесткий, с одним блестящим во тьме глазом, вырос над толпой, сказал:
– Японец третьего дня в Сундугу пришел. Чугуевские ребята баяли. Пришел, занял школу – и сразу по бабам: «Руськи барысня, руськи барысня… сю-сю-сю». Тьфу, прости Господи!.. – оборвал он с ненавистью, резко рванув рукой наотмашь, словно отрубая.
– Он и до нас дойдет, это уж как пить…
– И откуда напасть такая?
– Нету мужику спокою…
– И все-то на мужике, и все-то на ем! Хотя б уж на что одно вышло…
– Главная вещь – и выходов никаких! Хучь так в могилу, хучь так в гроб – одна дистанция!..
Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид – весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но, вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные, ему одному тревожные нотки.
«Плохо дело, – думал он сосредоточенно, – совсем худо… Надо завтра же написать Сташинскому, чтобы рассовывал раненых, куда можно… Замереть на время, будто и нет нас, караулы усилить…»
– Бакланов! – окликнул он помощника. – Иди-ка сюда на минутку… Дело вот какое… садись поближе. Думаю я, мало нам одного часового у поскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки… ночью особенно… Уж больно беспечны мы стали.
– А что? – встрепенулся Бакланов. – Разве тревожно что?.. или что? – Он повернул к Левинсону бритую голову, и глаза его, косые и узкие, как у татарина, смотрели настороженно, пытливо.
– На войне, милый, всегда тревожно, – сказал Левинсон ласково и ядовито. – На войне, дорогой, это не то, что с Марусей на сеновале… – Он засмеялся вдруг дробно и весело и ущипнул Бакланова в бок.
– Ишь ты, какой умный… – заговорил Бакланов, схватив Левинсона за руку и сразу превращаясь в драчливого, веселого и добродушного парня. – Не дрыгай, не дрыгай – все равно не вырвешься!.. – ласково ворчал он сквозь зубы, скручивая Левинсону руки назад и незаметно прижимая его к колонке крыльца.
– Иди, иди – вон Маруся зовет… – хитрил Левинсон. –