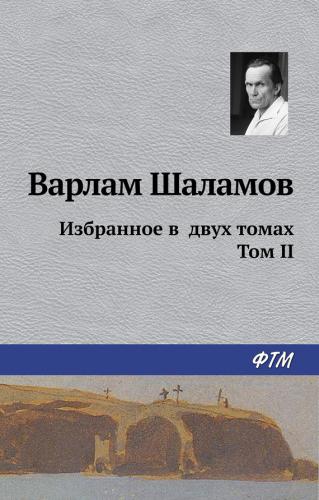– Стерпел бы, наверное, – тихо ответил Вавилов. И я понял, что он уже давно думал об этой неотвратимости.
Потом я понял, что тут все дело в физическом преимуществе, если это касается бригадиров, дневальных, смотрителей – всех людей невооруженных. Пока я сильнее – меня не ударят. Ослабел – меня бьет всякий. Бьет дневальный, бьет банщик, парикмахер и повар, десятник и бригадир, бьет любой блатной, хоть самый бессильный. Физическое преимущество конвоира – в его винтовке.
Сила начальника, который бьет меня, – это закон, и суд, и трибунал, и охрана, и войска. Нетрудно ему быть сильней меня. Сила блатных – в их множестве, в их «коллективе», в том, что они могут со второго слова зарезать (и сколько раз я это видел). Но я еще силен. Меня может бить начальник, конвоир, блатной. Дневальный, десятник и парикмахер меня еще бить не могут.
Когда-то Полянский, физкультурный деятель в прошлом, получавший много посылок и не поделившийся никогда ни с кем ни одним куском, укоризненно говорил мне, что просто не понимает, как люди могут довести себя до такого состояния, когда их бьют, возмущался моими возражениями. Но не прошло и года, как я встретил Полянского – доходягу, фитиля, сборщика окурков, жаждавшего за суп чесать пятки на ночь каким-то блатным паханам.
Полянский был честен. Какие-то тайные муки терзали его – настолько сильные, острые, навечные, что сумели пробиться сквозь лед, сквозь смерть, сквозь равнодушие и побои, сквозь голод, бессонницу и страх.
Как-то настал праздничный день, а нас в праздники сажали под замок, это называлось праздничной изоляцией, – и были люди, которые встречались друг с другом, познакомились друг с другом, поверили друг другу именно на этих изоляциях. Как ни страшна, как ни унизительна была изоляция, она была легче работы для заключенных пятьдесят восьмой. Ведь изоляция была отдыхом, пусть минутным, а кто бы тогда разобрался, минута, или сутки, или год, или столетие нужно было нам, чтобы вернуться в прежнее свое тело, – в прежнюю свою душу мы и не рассчитывали вернуться. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся. Так вот, Полянский был честен, мой сосед по нарам в изоляционный день.
– Я хотел давно тебя спросить одну вещь.
– Что же это за вещь?
– Когда несколько месяцев назад я смотрел на тебя, как ты ходишь, как не можешь перешагнуть бревна на своем пути и должен обходить бревно, которое перешагнет собака. Когда ты шаркаешь ногами по камням и маленькая неровность, чуточный бугорок на пути казался препятствием неодолимым, вызывающим сердцебиение, одышку и требующим длительного отдыха, я смотрел на тебя и думал – вот лодырь, вот филон, опытная сволочь, симулянт.
– Ну? А потом ты понял?
– Потом я понял. Понял. Когда сам ослабел. Когда меня все стали толкать, бить, а для человека нет лучше ощущения сознавать,