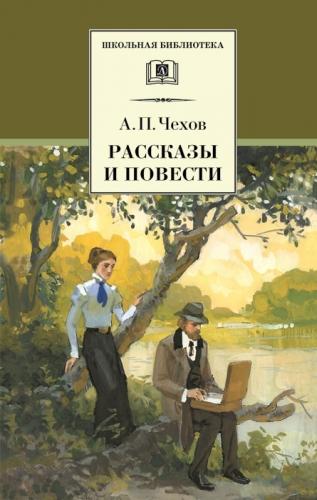Но еще в Ялте Гурова, похоже, коснулось предчувствие, что привычная мимолетная связь удалась не вполне, иначе откуда это странное ощущение, когда расстался с Анной Сергеевной, будто только что проснулся; откуда это новое для него сожаление оттого, что казался ей не тем, кем был на самом деле, и потом, в Москве, вспоминая ее, почему сам казался себе лучше, чем был прежде?..
В последней главе Гуров снова в номере у Анны Сергеевны, женщина плачет, а он долго пьет чай, думает о своей любви, о том, что голова седая, и о том, как трудно найти решение и начать новую, прекрасную жизнь. Перед нами другой Гуров, преображенный. Казаться уступило место б ы т ь; и в мире вокруг все для него поменялось теперь местами: важное и незначительное, подлинное и ложное; то, что высилось данностью, оказалось миражем, пустой оболочкой, а то, что представлялось мимолетным, частным, обернулось главным и необходимым, сделалось для Гурова зерном его жизни. По дороге к Анне Сергеевне он объясняет дочери, что на поверхности земли и в верхних слоях атмосферы – разная температура.
Опять же еще в Крыму, на горе у церкви, над морем набежало откровением: как прекрасен мир, когда мы не забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве, – набежало и забылось на званых московских обедах и юбилеях, в клубе за картами, за селянкой на сковородке. И лишь получив в ответ на томившее его желание поделиться с кем-нибудь воспоминаниями об Анне Сергеевне реплику про «осетрину с душком», Гуров с ужасом увидел свою бескрылую жизнь во всей ее безысходности: «Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми».
Чехов писал о страшной воспитательной роли мелочей. Мелочи воспитывают человека, то есть преобразуют, создают его нового. Не чудо – мелочь, «обыкновенность», вдруг обернувшаяся чем-то необыкновенно значительным, помогает человеку прозреть, по-новому увидеть мир, свою жизнь, судьбу.
«Вы не читали Лессинга!..» Эта фраза в рассказе про учителя словесности, вроде бы и необязательная (случайная, в чем-то даже и смешная реплика второстепенного лица), вдруг застревает в памяти героя, несколько раз по-разному повторяется им, пока наконец не оборачивается воплем отчаяния, тоской по загубленной жизни: «Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустились!»
Учитель словесности гонит прочь новые мысли: с их появлением неизбежно начинается «новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем», но невозможно, прозрев, заставить себя снова не видеть. Не видеть торжествующей вокруг пошлости, кристаллизованной в суждениях его нежно любимой супруги Манюси, не видеть пошлости, восторжествовавшей в нем самом, учителе словесности, радостно принимавшем до поры эти суждения, как радостно принимал доставшийся в приданое