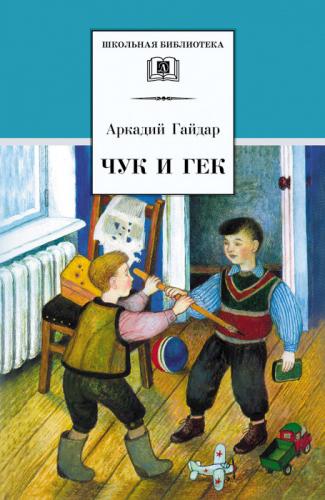– Это тебя на войне убили? – спросила Танюшка, осторожно дотрагиваясь пальцем до костыля.
– На войне! – рассмеялся я и сунул костыли под кровать.
– А у нас, Борька, горе какое! Ну такое горе! Такое горе! – И сестра грустно посмотрела на меня.
– Какое ещё горе? – встревоженно спросил я, пододвигая её к себе.
– А такое горе, что Лизочка уже умерла!
– Какая ещё Лизочка? – спросил я, вспоминая и перебирая в памяти всю весёлую ораву моих двоюродных сестричек, живших в деревне неподалёку от Арзамаса.
– Как – какая? – И Танюшка подняла на меня печальные и изумлённые глаза. – А наша-то Лизка – кошка такая. Помнишь? Да она-то ещё один раз с печки спрыгнула и молоко опрокинула. Ну, вспомнил теперь?..
– Вспомнил, Танюша!
Пришла мать. Распахнув дверь, она остановилась. Внимательно посмотрела на меня. Поставила на пол корзину и, подойдя, крепко обняла меня. Сбросила платок, холодными от мороза руками взяла мою голову, посмотрела мне в лицо и сказала дрогнувшим голосом:
– Похудел. Побледнел. А вырос-то, а вырос-то! Да встань ты с кровати! Дай я на тебя посмотрю.
– Мне, мама, неохота с кровати вставать, – отказался я. – Я бы, пожалуй… да у меня нога немного побаливает.
– Отчего побаливает? – И мать подозрительно посмотрела вокруг. – То-то я слышу, что йодоформом пахнет.
– А оттого побаливает, что ещё не зажила. То есть уже зажила, да ещё не совсем.
– Он с палками пришёл, – вмешалась Танюшка, вытягивая из-под кровати костыли. – Как пришёл, так под кровать их спрятал, а сам сидит!
– Ранен? – тихо спросила мать.
– Немножко, – ответил я. – Да ты не думай ничего, мама, всё прошло…
Мать провела рукой по моей бритой голове, и с минуту мы просидели молча. Потом она быстро встала, сдёрнула пальто и бросилась на кухню:
– Бог мой! Да ты, должно быть, голодный!.. Танюшка, беги скорей в сарай – тащи уголь! Сейчас самовар поставлю. И куда это я спички сунула?.. Борис, у тебя есть спички?.. Не куришь? Так, ну и хорошо! Да вот они! Ты бы сапоги снял и лёг. Дай я тебя разую…
Вскоре зашипел самовар. Запахло с кухни чем-то вкусным. Входила и выходила из комнаты раскрасневшаяся у плиты мать. Ровно тикали стенные часы, да колотила метелица в узорчатые морозные окна.
Лёгкая дрёма охватила меня. Было тепло и мягко на старой кровати, укрытой знакомым стёганым одеялом. И вдруг показалось мне, что ничего не было: ни фронта, ни широких, далёких степей, ни отряда, ни боёв. Будто бы всё то же, что и раньше. Вот она, настенная полка с учебниками. Вот в углу древняя картина, изображающая вечер, закат, счастливых жнецов, возвращающихся с поля. Через открытую дверь виднеется кипящий самовар на клеёнчатом столе – такой же неуклюжий, с конфоркой, похожей на старую шляпу, сбившуюся набок.
Я полузакрываю глаза…
В углу возится Танюшка, напевая древнюю баюкающую