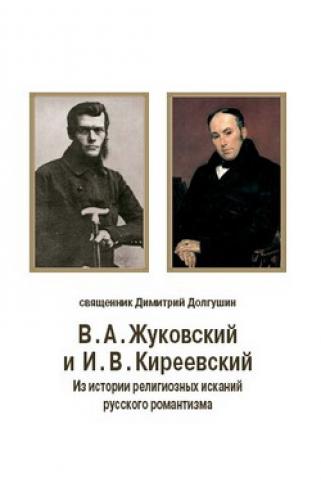Киреевский был глубоко тронут самоотверженной заботой Жуковского. «Если бы дело касалось до одного меня, то я бы назвал его счастливым, столько прекрасных минут оно мне доставило, из которых лучшим я обязан Ж<уковскому> и Вам» [Гиллельсон 1986, 123], – писал он П. А. Вяземскому (Вяземский тоже обращался к Бенкендорфу с обширной запиской в защиту «Европейца»). По этому и по другим письмам, написанным вскоре после запрещения журнала, видно, что Киреевский крепился, старался не падать духом и даже намеревался не оставлять журналистской деятельности. «Если бы Сомов задумал издавать журнал по форме, я бы обязался доставлять ему каждые две недели печатный лист…» [Гиллельсон 1986, 125], – предлагал он. И все же за общим, весьма сдержанным («застенчивость чувства») тоном писем Киреевского этого времени скрывается боль. Киреевский переживал не только из-за запрещения своего журнала, но и из-за его последствий – ужесточения цензуры, серьезной болезни матери. К тому же это было третье подряд несчастие, постигшее его. Первым было неудачное сватовство к Н. П. Арбеневой. Тогда, чтобы спастись от меланхолии, ему пришлось отправиться в заграничное путешествие и задавить себя работой. Вторым была сама эта, неудавшаяся, как считал Киреевский, поездка в чужие края. История с «Европейцем» стала для него третьим ударом. Как и два первых, сначала она привела его в уныние. Однако Киреевскому удалось в конечном итоге справиться с ним.
В апреле 1832 г. А. П. Елагина писала Жуковскому: «Иван все еще не умеет опомниться и с собой сладить. Собирается в деревню зарыться в хозяйство»[63] [УС, 56]. Жуковский старался подбодрить его. В одном из писем к Авдотье Петровне он спрашивает:
Что делает Иван? Боюсь, что он ничего не делает, а это никуда не годится. Его неудача журнальная не может служить ему оправданием, она может быть только разве придиркой для его лени. Петр когда-то говорил мне о намерении переводить Шекспира: вот дело на целую жизнь, и какая была бы услуга для русского языка. Для чего бы и Ивану не выдумать себе подобной работы? Да и не все же работать для печати. Работай для того, чтобы душа созревала и не мелела [УС, 55].
То же советовал Киреевскому и Е. А. Баратынский:
Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным [Баратынский, 238].
Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления [Баратынский, 244–245].
Киреевский постарался, по возможности, следовать этим советам. В хозяйство он не зарылся и даже не поехал с родными на лето на дачу в Ильинское. Заменой журнальной деятельности становится для него интенсивная переписка с Баратынским. Здесь он развивает темы, при более благоприятных обстоятельствах, несомненно, ставшие