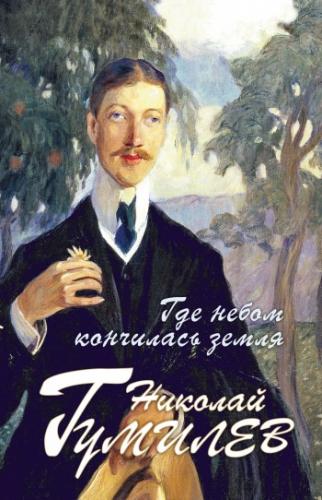На даче Шмидта были разговоры, из которых Гумилеву стало ясно, что АА не невинна. Эта новость, боль от этого известия, довела Николая Степановича до попыток самоубийства».
Написанные тогда же в Севастополе и утраченные впоследствии стихи, кроме прочего, включали и стихотворение «Доктор Эфир». Можно предположить, что более поздний рассказ «Путешествие в страну эфира» являлся вариацией на ту же самую тему.
В рассказе этом действуют герои, среди которых доктор, призывающий нюхать эфир, а также Мезенцов, девушка Инна и Грант. Рассказ банальный, ровным счетом ничем не отличающийся от убогих фантазий, помещенных в дореволюционном журнале «Мир приключений», впрочем, послереволюционный его тезка, альманах с тем же названием был полон таких сочинений, лишенных действия, с выдуманным – не сюжетом, а завязкой, исходной сценой, и картонными, так что, кажется, скрипят, персонажами с короткими, никогда не встречающимися в жизни фамилиями (даже если это фамилии Смит, Иванов, Миллер).
Но дело сейчас не в том. Нас интересует сюжет, который сводится к следующему. Доктор, явившийся, чтобы вывести из истерики героиню, дает ей понюхать эфир, а потом едва ли не воспевает его необычайные свойства, дающие возможность преодолеть пространства и время. Герои наконец решаются проверить, правду ли говорил доктор, тогда как Инне не терпится опять почувствовать действие наркотика.
В.Я. Брюсов. Фотография, 1900-е гг.
Анна Ахматова. 1910-е гг.
Грант (мы помним, что этим псевдонимом подписывался Гумилев, публикуя во втором номере журнала «Сириус» свою прозу) чувствует воздействие эфира на себе: «Закрыв глаза, испытывая невыразимое томленье, я пролетел уже миллионы миль, но странно пролетел их внутрь себя. Та бесконечность, которая прежде окружала меня, отошла, потемнела, а взамен ее открылась другая, сияющая во мне. Нарушено постылое равновесие центробежной и центростремительной силы духа, и как жаворонок, сложив крылья, падает на землю, так золотая точка сознания падает вглубь и вглубь, и нет падению конца, и конец невозможен. Открываются неведомые страны. Словно китайские тени, проплывают силуэты, на земле их назвали бы единорогами, храмами и травами. Порою, когда от сладкого удушья спирается дух, мягкий толчок опрокидывает меня на спину, и я мерно качаюсь на зеленых и красных волокнистых облаках. Дивные такие облака! Надо мной они, подо мной, и густые, и пространства видишь сквозь них, белые, белые пространства. Снова нарастает удушье, снова толчок, но теперь уже паришь безмерно ниже, ближе к сияющему центру. Облака меняют очертания, взвиваются, как одежда танцующих, это безумие красных и зеленых облаков.
Море вокруг, рыжее, плещущее яро. На гребнях волн синяя пена; не в ней ли доктор