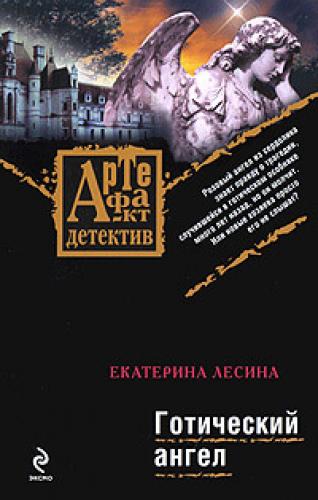Сергей Владимирович пил мелкими осторожными глоточками, но кружка была большая, неудобная, и вода пролилась на подушку.
– Никогда таким слабым не был, – сказал Ольховский. – Всегда сильный… всегда… а тут… руки поднять не могу… дрожит. И больно, все время больно… Думается, скорей бы уж… но сначала рассказать, верно? Должен рассказать… чтоб по порядку. Он к ней приезжать повадился, с подарками, цветами… и матушка радовалась… а я ревновал… я позволил этой ревности и себялюбию уничтожить мою любовь.
Матушка расцвела, матушка только и говорила, что об Ижицыне, каждый день выискивая все новые и новые достоинства, большею частью вымышленные, меня же его визиты несказанно утомляли, и с превеликою охотой я бы отказалась и от графа, и от его подарков, которые становились все дороже, что, по мнению матушки, говорило о серьезности намерений Ижицына.
Сереженька думал так же. Сереженька ревновал, страшно, исступленно, до нервических припадков, когда он срывался на крик и угрозы в адрес Савелия Дмитриевича, и глухого молчания, что пугало меня больше, чем все угрозы.
В один из редких Сереженькиных визитов в наш дом матушка указала ему на дверь, он и ушел. А на следующий день, объявившись у Матрены на кухне – та в отличие от матушки Сереженьку привечала, – предложил мне обвенчаться.
Я испугалась, и за него, и за себя, и за матушку… как можно без родительского благословения? Я попросила время подумать, всего-то день, а он снова ушел, кинув мне в лицо обвинение, будто бы ижицынские деньги важнее любви.
– Ох и бедовый, – сказала Матрена, растапливая самовар. – Тяжко будет с таким жить-то…
Мы пили чай, горячий и безвкусный, и я все думала над Матрениными словами. Бедовый, и вправду бедовый, горячий без меры и резкий, даже со мною резкий.
На следующий день Сереженька не появился, и день спустя, и еще один… Я считала каждый из них, да что там дни – я считала часы и минуты одиночества. А потом получила записку, и ожидание потеряло смысл.
«Я всегда любил тебя, однако выносить сложившуюся ситуацию дальше не имею сил. Полина Павловна никогда не даст согласия на наш брак, а сама ты решиться не способна, потому я решил за нас обоих. Сегодня я отправляюсь в Петербург, оттуда… Впрочем, вряд ли тебе интересны мои дальнейшие планы, потому как в них для тебя места нету. Желаю счастья в браке. Ольховский».
Я читала и перечитывала, не веря, что Сереженька мог быть настолько жесток, настолько несправедлив ко мне, а Матрена, пожав плечами, повторила:
– Бедовый.
Бедовый. Единственно дорогой и любимый, предавший вот так, просто, походя, несправедливый… Я плакала, прямо там на кухне, уткнувшись в пропахшее луком, чесноком да базиликом Матренино плечо. И ночью плакала, и когда принесли очередной букет от Ижицына – крупные карминово-черные розы с тяжелым назойливым ароматом, – тоже расплакалась, а матушка принялась