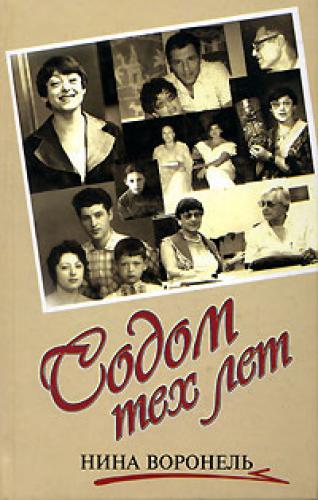«Юлий Маркович, я к вам».
Юлик испуганно вскочил и поспешно указал ей на смежную комнату, где, к счастью, никто не отсыпался после вчерашней выпивки. Они прошли туда и закрыли за собой дверь. Пробыла она у Юлика недолго, полчаса, не больше, и вышла, нахохлившись, похожая на большую черную птицу, а Юлик с виноватой улыбкой неуверенно засеменил за ней до двери.
Когда дверь за ней закрылась, харьковские поэты вопросительно уставились на Юлика, но он не стал с ними откровенничать, а мне потом сказал, растерянно разводя руками:
«Она требовала, чтобы я отпустил Таню. Странная идея разве я держу ее насильно?»
Беспокоилась Маргарита Иосифовна не напрасно – как только Юлика арестовали, Таню начали таскать в КГБ. От нее добивались исповеди о ее отношениях с Юликом, – похоже, они собирались пришить ему еще и аморалку, но потом почему-то передумали. Но пока не передумали, они клещами вцепились в бедную Таню и ее подруг с одним и тем же сакраментальным вопросом: «Было или не было?» А так как Таня упорно отказывалась на этот вопрос отвечать, ее подолгу держали в запертой комнате и много часов не пускали в уборную. Она плакала и умоляла пустить ее пописать, а они смеялись и не пускали, и все-таки она не раскололась, – тоненькая, хрупкая, почти прозрачная на просвет. И стала под пыткою Татьяной, как героиня поэмы своей матери.
Умерла она совсем молодой от лейкемии, – я прочла в каком-то медицинском журнале, что нет более сильного катализатора раковых заболеваний, чем регулярное неумеренное злоупотребление алкоголем. С ее смертью оборвалась петля судьбы, затянутая в доме Туси вокруг имени Таня.
Другая петля, поскромней и потоньше, стала вывязываться у меня еще в пионерском лагере Лозовеньки под Харьковом. Я подружилась там с худеньким мальчиком Володей Буричем, которому часами читала наизусть стихи. Хоть я тогда еще не имела понятия ни о Цветаевой, ни о Пастернаке, я знала на память бессчетное количество стихотворных строк – ума не приложу, откуда я их набрала. И бледный, зеленоглазый мальчик Володя, на вид совсем еще ребенок, жадно ловил каждое мое слово. Он был потрясен – он не просто слушал стихи, а внимал им, впивал их всем существом. Ни родители, ни друзья, ни окраинная школа, где он учился, не удосужились сообщить ему, что на свете существует поэзия, – скорей всего, они и сами об этом не знали. А если и знали понаслышке, то считали все это никому не нужной блажью. По прошествии месяца наша смена в пионерском лагере закончилась, нас развезли по домам, и мы с Володей потеряли друг друга из виду.
Прош�