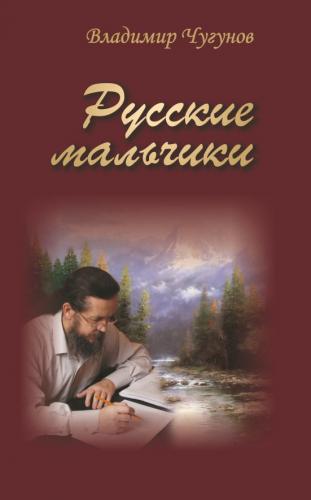– Библия?
Кивнул, внимательно вглядываясь в это ветхое создание. Особенно удивили по-детски ясные глаза.
– В Бога, стало быть, веруешь, – ласково заключила она и, глянув куда-то вдаль, улыбнулась. – Да-а, вера – всё. Сама, почитай, только верою и дышу. И всё-то мне от неё мило – небо, облачка, берёзки, сосёнки, каждый кустик. Выйду на речку полоскать – хорошо! По четыре часа, порой, кряду Писание читаю. Одна живу. Не оторвалась бы, да дела поделать надо… Спросят, не скучно одной? Да разве я одна? Мне с имя скучно. Кабы Божие слушать хотели. Говорить-то говорят без умолку, да всё не то. Только друг дружке сердца выстужают. Соборовал у нас на Крестопоклонной батюшка, так сказывал про Матушку, Царицу Небесную, у немцев (или как их там) трём девочкам на поле явилась и говорит: «Устала, быть, я за них молиться. Так им и передайте». Нам – то есть. Всю ночь после того плакала. И теперь, как вспомню, плакать хочется. Огорчаем шибко мы Заступницу нашу. Говорю – а им про это не интересно. Про Склыпировского какого-то всё трещат. На телевизор не налюбуются. Эка невидаль! Мне один старичок ещё в первую Германскую сказывал, что придёт время, сатана придумает такой ящик, перед которым соберёт весь мир, а рога на крышу поставит. И жалко их, и помочь ничем не могу. Только и остаётся, что молиться. За полночь, бывало, встану, да так до свету и промолюсь… Выйду на волю, гляну вокруг – и так мне всё любо! Облачка, солнышко наливается, туман с реки в проулок заползает, петухи перекликаются, птицы небесные поют – хорошо! Нет, думаю, не устала Матушка за нас Бога молить и никогда не перестанет!
И глаза её засияли как у ребёнка. А сам я забыл, что я и где я. Так и хочется повторить вслед за апостолом – «в теле или вне тела». Нас словно что-то окружило, как бывало в детстве, в шалаше, когда внезапно создавался обособленный от всего прочего сказочный мир. Теперь мне кажется, что это и есть те прикосновения с вечностью или с живительным её дыханием, без чего тяжела жизнь, особенно к старости.
Взять хоть, к примеру, Бориса Павловича. Второй год он помогает мне по весне приваживать стадо. Сейчас у него горе: умер «в вине» единственный сын. И теперь всякий раз он поджидает меня по вечерам, чтобы отвести душу. За время совместного пастушества мы немного сроднились. Во всяком случае, я много знаю о нём из его красочных рассказов. Начинает он их с присказки: «Не-эт, Володенька, Бог меня обидел, и я Ему не верю». И в подтверждение – история. Одна из тех, что не так давно вершила судьбами миллионов. Любил и пошутить. Бывало, спросит: «Не пора ли домой?» – «А не рано?» – «Смотря, – скаламбурит, – какая рана, а то и медведь не залижет». Но пошлости и скабрезности не любил. Была в нём чисто русская благородная душа крестьянина. Можно бы сказать, христианина, если б он так категорично не настаивал, что «Бог его обидел, и он Ему не верит». Даже смерть сына не поколебала