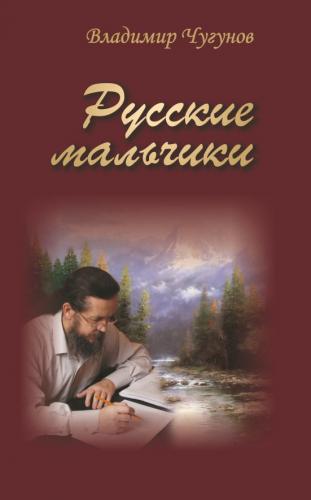Ничего особенного не нашёл я и на Украине, куда несколько раз ездил в командировку от завода, на котором около года, до старания, работал регулировщиком радиоаппаратуры. Помню погружённый в непроглядную украинскую ночь Коммунарск, где на каком-то заводишке изготавливали детали для наших радиостанций. Сады черешни и виноградники, мягкий малоросский говор («Тю-у, а я и нэ бачу»), шахтеры, с чёрными, как у негров, лицами, и – контрастно румяные хохлушки, белые хаты, скудные безлесые дали и тоска по дому. Хорошо помню, с какой радостью вступал всегда на родную землю, с какой нежностью смотрел на струившиеся в свете ночного фонаря космы берёз, на пахучие липы парка, чёрную полоску далёкого леса.
Всё было, как везде и всюду. И чем больше я странствовал, тем больше понимал: вся премудрость «внутри нас есть» или, как перефразировал Тютчев: «В самом себе лишь жить умей: Есть целый мир в душе твоей». И мир этот с каждым годом я всё больше и больше открывал в себе.
За окном мело. Сердито стегало по чёрному, отражавшему черты здешнего уюта, стеклу крупинчатым снегом, а в этом тихом домашнем тепле, у ног покорно сидевшего с папками на коленях дорогого существа, я находил необыкновенное блаженство. В такие вечера Галя никогда не думала о себе и готова была сидеть или бродить по пустынным улицам хоть до утра, а потом, не выспавшись, бежать на работу, но я, жалея её, отправлял отдыхать:
– Ступай. Тебе завтра вставать рано, а я высплюсь.
Она благодарно закутывала меня в воротник новой купленной на старательские деньги искусственной, богато отливавшей баргузинским мехом шубы и, опустив глаза, говорила:
– Так тебе будет теплее. Такой ветер на улице.
– Ты замёрзла?
– Не очень.
Я брал её холодные руки и, стараясь отогреть дыханием, возражал:
– Какое – не очень? Как ледышки!
– Зато любовь горячая, – отвечала она избитой фразой и, заметив мою улыбку, спрашивала: – Ты, правда меня любишь? За что? Я такая дурочка.
– Вот за это самое и люблю.
– Что дурочка? – смеялась она. – И тебе со мной не скучно?
– Иди, спи!
– Не хочу.
– Иди.
– Не пойду.
– А я говорю – иди!
Она покорно вздыхала, грустно, будто на век прощаясь, смотрела на меня и, наконец, соглашалась:
– Ла-адно, пойду. Только ты – первый, а потом – я.
– Нет, ты первая.
– Нет – ты.
В это время скрипела дверь внизу. Галя поспешно поднималась по ступенькам и скрывалась в дверях общежития. Почти каждый раз повторялось одно