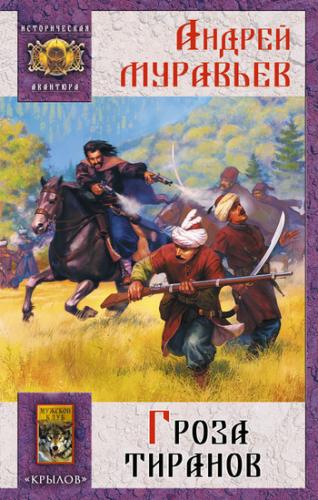Я не помню, когда меня бросили в камеру. Все вокруг плыло, каждое движение вызывало хоровод боли. Я не мог причитать и плакать – только тихо выть.
Беспамятство накатывало волнами, оставляя в памяти короткие куски реальности, отравленные и изуродованные.
Серб спал.
Я дополз до него, вытянул из сена кувшин. Воду выпил, а сам горшок тихо разбил. Зоран спал. Его, видимо, тоже допрашивали. Возможно, сербу и было, что рассказывать. Мне – нет.
Острым осколком я раскромсал кисть левой руки, темная густая кровь закапала на грязный пол. Правую руку я вскрыл, зажав осколок губами…
Последнее, что я успел, это прочитать молитву… Тихо… Одними губами… Шепотом.
Перед тем, как на глаза навалилась мягкая, нежная подушка забытья, чарующего, желаемого ничто, мне показалось… показалось, как сверкнули глаза сокамерника…
3
– Ты будешь жить, кяфир! Будешь жить до тех пор, пока ты мне нужен! И умрешь тогда, и только тогда, когда я тебе разрешу!
Дьявол! Опять эта усатая рожа чорбаджи! Опять толстая харя Али! Неужели и после смерти мне от них не избавиться?!
Я лежал на грубой циновке у дверей собственной камеры. Было мокро.
Руки перевязаны и примотаны к телу чистыми холстинами. У стены переминается с ноги на ногу тщедушный старичок в богатой чалме и вышитом халате. В руках его звякает сверток. Умные глаза на мятом, невыспавшемся лице. Лекарь?
– Идите, Омар-эфенди, – Усатый отпустил облегченно вздохнувшего старичка. Значит, лекарь.
Не успел… Не смог.
Турок нагнулся к самому уху.
– ТЫ не умрешь, пока нужен МНЕ!!!
И уже Али размешивает питье и сует мне в губы очередную плошку.
Я замотал головой. Оплеуха. В глазах поплыло. Пока считал круги и стеклянных червячков, в зубы воткнули кинжал и залили в рот отвар. Сразу полегчало.
Я рванулся, попробовал зубами дотянуться до холстин, перегрызть.
Не смог… Не дали… И я уснул.
4
Сколько я валялся в беспамятстве, не знаю, но когда очнулся, солнце было уже высоко.
Днем в камере было еще терпимо, но к вечеру комнатушка, где единственное окно выходило на запад, превращалась в настоящее пекло – к смраду и сырости добавлялась духота.
Вечер еще не наступил. В этом можно было быть уверенным.
Я был все так же спеленат, как и ночью. Обмотанный и перевязанный, как гигантская гусеница. Пришлось извиваться, рыча и чертыхаясь на каждом движении, чтобы только осмотреться. Моя камера. Точно моя. Но без серба. На куче сена в углу не было никого.
То ли на шум, поднятый мной, то ли так совпало, но двери заскрежетали и в «номер» заглянул тюремщик.
– Живой? – он ухмылялся.
По волосатой груди, выступающей через расстегнутую безрукавку, катились крупные капли пота. В пышных усах застряли кусочки