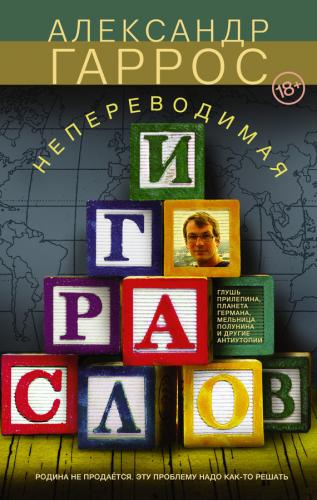Я слушаю его и испытываю странное ощущение. Невнятное и неуютное, как дежавю. Одновременно нежность, досаду и неловкость. Поскольку всё, что сейчас говорит мне режиссер Герман – что он считает действительно нужным сказать, – верно на сто процентов, довольно наивно и вполне банально. И, пожалуй, те люди, которые с интересом или нетерпением ждут слов режиссера Германа, – скорее лучшие, нежели наоборот, люди моей страны, – всё это, а то и побольше, неплохо понимают и без него. Пожалуй, они предпочли бы услышать от режиссера Германа, титана и стоика, священного чудовища и черной дыры, что-нибудь другое. Например, что им с этим своим пониманием надлежит делать.
– Мне кажется, – говорит на это Герман твердо, – что прежде всего надо вернуть людям чувство собственного достоинства. На это и должен быть направлен современный агитпроп: медведевский, путинский, властный, какой угодно! Без этого ничего не произойдет. Ведь это же очевидно, это же в лицах отражается! Вот смотри: есть же какие-то лица, просто лица человеческие, свойственные каждой эпохе. Когда мы занимались «Лапшиным», мы пересмотрели множество архивных фотографий, съемок, много времени провели в тюрьме и в Музее уголовного розыска. И вот года до 35–36-го в милиции были одни лица: достаточно хорошие, нормальные, интеллигентные. Ну вот как у тебя, скажем. А потом – стали другие. Появились и всё заполнили люди с рожами свиноматок. И вот сейчас я смотрю на ту же милицию, на начальников мелких… – может, и не так много, как когда-то было, но тоже начали появляться люди с рожами свиноматок! А поскольку я сторонник теории Ломброзо, то по глазам и по щекам я вижу в них жуликов.
– По щекам? – переспрашиваю я.
– По щекам! – он торжествующе обхватывает обе щеки ладонями, растягивает в стороны и вверх.
– Вот такие щеки, – говорит невнятно, – вот они у жуликов.
Он отпускает щеки, они с облегчением возвращаются на природное место.
– А от меня лично, – говорит он печально, но в глазах проскакивает неопознанная искра, – тут ничего особенно не зависит. От меня зависит – постараться сейчас сделать картину хорошую. И, так сказать, полезную населению.
Я ловлю взглядом эту быструю искру и вдруг понимаю, что не испытываю больше ни неловкости, ни досады. Потому что именно здесь есть какой-то важный ключ. И к тому, что он говорит. И к тому, что он делает. Ко всем его правильным тривиальностям. Ко всем его мучительным долгостроям. В конце концов, все истории, которые