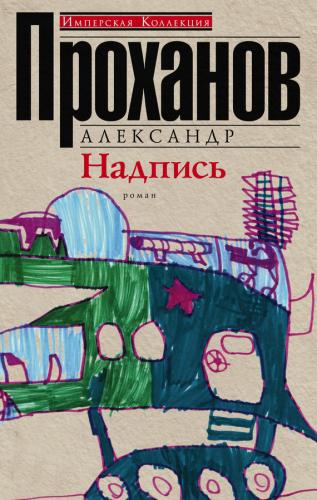И вот они сидели перед чашечками кофе под рогатым изображением бога зла, и Саблин, дорожа их общением, любовно сияя серыми сверкающими глазами, говорил:
– Мишель, если бы вы знали, как я дорожу каждой нашей встречей. Всякий раз открываю в вас все новые и новые достоинства. Вы – удивительный человек. Не похожи ни на одного, с кем я общаюсь. И уж, конечно, не похожи на этих увечных, уродливых существ, именуемых по недоразумению писателями. Это худшее, что есть в нашей никчемной, дурной стране. Вы – полная им противоположность. Книга, которую вы мне подарили, – нежная, изящная, как перламутровая раковина. Ваш разрыв с этой угрюмой тупой цивилизацией, где вам предлагалось стать винтиком и за каждым вашим шагом, за каждой мыслью наблюдал мужик с пистолетом, – ваш уход в леса созвучен монашескому подвигу. Вы всем пренебрегли: оставили Москву, отчий дом, невесту, оставили свою престижную инженерию, которая сулила вам при ваших талантах быструю карьеру. Вопреки страшному давлению советской среды, ушли в леса. Это напоминает уход Толстого. Напоминает поступок императора Александра Первого, оставившего трон и ставшего старцем Федором Кузмичом. Для этого нужно мужество, нужен порыв, нужна высшая духовная цель. Это подвиг – аристократический, монашеский. На него не способно все это животное быдло!.. – Саблин в пол-оборота оглянулся на шумящий зал, в котором колыхались размытые тени, окутанные дымом, словно люди, пропитанные спиртом и больным кофеином, на глазах истлевали.
Коробейникову было неловко слушать восторженные излияния, экзальтированные признания в любви. Он еще не забыл недавний жестокий поступок Саблина, превративший именитого писателя в скрюченного жалкого зэка. Но было сладко вкушать похвалы оригинального, поражавшего воображение человека, соединявшего в себе едкий беспощадный цинизм и нежную, ищущую дружбы душу. Саблин был столь необычен, что Коробейников, общаясь с ним, исследовал его как героя будущего