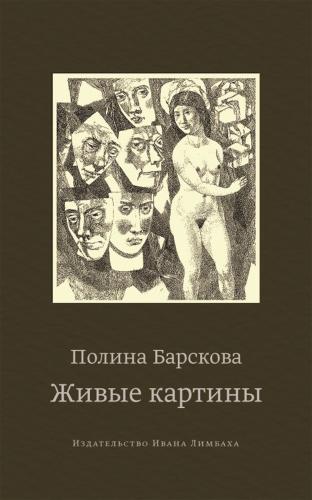P. S.
На жизненном пути чинить ущерб-c приходилось и нам самим-с.
Мокрые огромные шеи волов, мокрые огромные тела кораблей, коричневые лиловые разводы тумана, крики, стоны, проклятья, заверенья – в чём?
Ты всё ходишь у моря, всё ждёшь, что судьба-погода подбросит тебе тебя самого: влажного, свежего, новенького и сильненького. А она всё тебе суёт – чужое.
Ты напряжённо копаешься в останках, в рухляди, в ветоши и роскоши разрушенной тобой чужой жизни – нет, нам чужого не надо, спасибо.
Сквозь стыдные злые слёзы ты рассматриваешь усатенькое милое лицо соседки, а потом все десять часов полёта спишь на её чужом плече, сопя и вздрагивая.
Горький в Лоуэлле
Кате Капович
В город я приехала поздно вечером, в снегопад, и завалилась на гостиничное ложе смотреть в телевизор. В нём парочка полицейских (он – квадратноголовый коротко стриженный немногословный белый вдовец, она – бешеная латина, стреляющая с двух рук), аналитическими способностями не уступающих арсену люпену и его D., ловили насильников-маньяков в разнеженных снежных улицах Нижнего Манхэттена. На каждое головокружительное по запутанности и злодейству преступление у приятелей уходило ровно двадцать минут. Как бы чудовищно дела ни обстояли на, скажем, шестой минуте, – через четверть часа торжествовали остроумие и справедливость – мне всё это пришлось по душе и я запоем высмотрела пять серий.
Наутро снег всё ещё шёл, и я отправилась сквозь него по набережной пустого канала к зданию Аудиториума. Туда же семенили мужчины в дешёвых торжественных костюмах и ослепительные женщины-птицы. Ещё бы, ведь в инструкции было написано, что прибыть на церемонию надлежит в подобающем случаю наряде – в воскресном в чистом в праздничном. Передо мной по льду, залитому, как бурой менструальной кровью, соевым соусом для оттаивания, цокала старая пуэрториканская красавица в изумрудном платье с блёстками; она надолго замерла перед сугробом, не решаясь погрузить в него шпильку. О, вонзай же, мой ангел! – я маялась за её спиной, рассчитывая вступить в свежий провалец в ледяной корке. По восшествии в Аудиториум нас разобрали и разъединили, как чечевичные зёрна, – родственников высыпали на балкон фотографировать, а новообращаемых распределяли по секциям, где они тут же принимались фотографировать родственников, фотографирующих их с балкона.
На сцену вышел церемониймейстер и сказал, лучась, что судья запаздывает и чтобы мы не волновались. А мы и не волновались. Я почитывала классический труд Е. Г. Эткинда «Перевод и поэзия», где, забравшись в архив Лозинского, Эткинд обнаружил «тщательно переписанные и снабжённые в ряде случаев комментариями высказывания Маркса и Энгельса о Данте и его