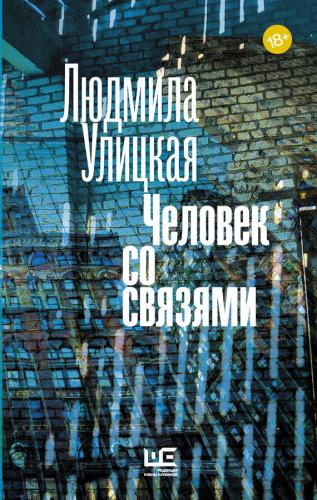Душ был как раз свободен. Она стянула шорты. Через ткань ощутила прямоугольную коробочку. Свернула всё аккуратно, чтобы не выпало. Инструкцию она помнила наизусть. Сегодняшнюю ночь она провела возле Алика. Не всю, несколько часов. Нинка вырубилась и спала в мастерской, а Алик не спал. Он попросил ее, и она всё сделала, как он хотел, и теперь эта коробочка была доказательством того, что именно она и есть его самый близкий человек.
Вода была не холодная, трубы сильно прогревались в такую жару. Все полотенца мокрые. Она обтерлась кое-как, нацепила на влажное тело одежду и выскользнула из квартиры: ей не хотелось с ними фотографироваться, вот что она поняла.
Она вышла к Гудзону, потом свернула в сторону парома и всё думала о единственном нормальном взрослом человеке, который как будто назло ей собирается умирать, чтобы опять оставить ее одну со всеми этими многочисленными идиотами – русскими, еврейскими, американскими, – окружающими ее с самого рождения…
Со зрением у Алика что-то происходило: оно и угасало и обострялось одновременно. Всё слегка укрупнилось и изменило плотность. Лица подруг вдруг стали жидковаты и предметы слегка текучи, но струение это было скорее приятным, к тому же оно по-новому выявило связи между предметами. Угол комнаты был взрезан одинокой старой лыжей, грязные белые стены бодро разбегались от нее в разные стороны. Это движение стен сдерживала женская фигура, сидящая на полу по-турецки и касающаяся затылком зыбкой стены. Самая прочная часть всей картины и была как раз эта точка соприкосновения женской головы и стены.
Кто-то подобрал снизу жалюзи, свет упал на темную жижу в бутылках, и она засветилась зеленым и темно-золотым. Жидкость стояла на разных уровнях, и в этом бутылочном ксилофоне он узнал вдруг свою юношескую мечту. В те годы он написал множество натюрмортов с бутылками. Тысячи бутылок. Может быть, даже больше, чем выпил… Нет, выпил все-таки больше. Он улыбнулся и закрыл глаза.
Но бутылки никуда не делись: побледневшими зыбкими столбиками они стояли в изнанке век. Он понимал, что это важно. Мысль ползла медленно и огромно, как рыхлая туча. Эти бутылки, бутылочные ритмы. И ведь музыка звучала… Скрябинская светомузыка, как оказалось при рассмотрении, была полным фуфлом – механистично и убого. Он тогда стал изучать оптику и акустику. И этим ключом тоже ничего не открывалось. Натюрморты его были не то чтобы плохие, но совершенно необязательные. К тому же он и Моранди тогда не знал.
Потом все эти натюрморты как ветром разнесло, ничего не осталось. Где-нибудь в Питере, может, сохранились у тогдашних друзей или у Казанцевых в Москве… Господи, как же