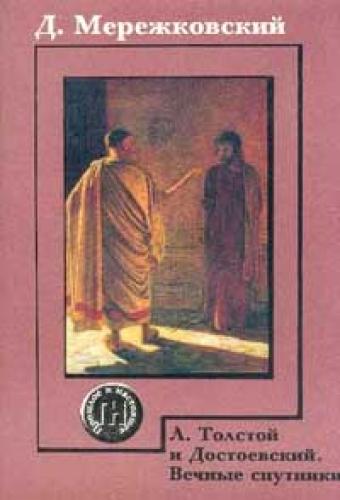Однажды весенним утром, помогая слуге выставлять рамы на окнах, почувствовал он внезапную радость и умиление христианского самопожертвования:
«Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю». «Как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем! – говорил я сам себе. – Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе».
«Исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские» – стало ему казаться «удобоисполнимою вещью». И он решил «написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая, действовать». Он тотчас пошел к себе наверх, достал лист писчей бумаги, разлиновал ее и, разделив обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, начал записывать.
С грустною, почти жуткою и все-таки слишком поверхностною насмешкою, как будто не подозревая всей глубины и болезненности того, что с ним происходило, рассказывает он свои тогдашние, по слову апостола Иакова, двоящиеся мысли. Получается странное впечатление: как будто в нем два сердца, два человека. Один, вследствие христианских мыслей о смерти, чтобы приучить себя к страданию, «несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах»; другой, вследствие тех же мыслей о смерти, вспомнив вдруг, что смерть ожидает его каждый час, каждую минуту, решал бросить уроки… и дня три «занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые покупал на последние гроши». Один Лев Толстой сознательный, добрый и слабый, смиряется, кается, питает отвращение к себе, к своей порочности; другой – бессознательный, злой и сильный, «воображает себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрит на остальных смертных», находя особое, утонченное, как бы сладострастное, наслаждение гордости даже в отвращении к себе, самоуничижении, самобичевании.
Рассказывая об этих отроческих мыслях своих, приходит он к заключению, что в основе их было четыре чувства: первое – «любовь к воображаемой женщине», то есть сладострастие плоти; второе – «любовь любви» людской, то есть гордость, сладострастие духа; третье – «надежда на необыкновенное тщеславное счастие, такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие»; четвертое – отвращение к самому себе и раскаяние.
Но, в сущности, это – не четыре, а только два чувства, ибо первые три соединяются в одно – в любовь к себе, к своему телу, к своей телесной жизни или к своему Я; второе – отвращение, ненависть к себе, нелюбовь к другим или к Богу, а именно только ненависть к себе. И здесь, и там первая основа и соединение двух столь, по-видимому, противоположных чувств