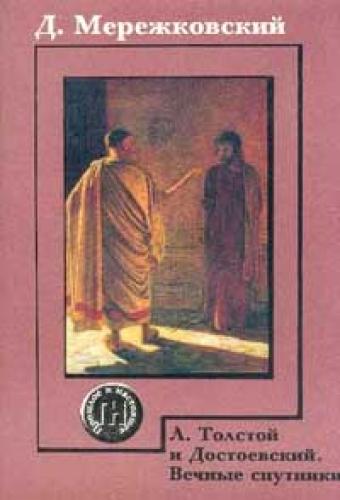– Голубчик, Толстой, не волнуйтесь. Вы знаете, как он вас ценит и любит.
– Я не позволю ему ничего делать мне назло, – говорит Толстой с раздувающимися ноздрями. – Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!..»
Наконец «катастрофа», которой не даром боялся Григорович, разразилась в Степановке, имении Фета, в 1861 году – ссора из-за пустяков, которая, однако, едва не довела их до поединка. Тургенев был виноват. Он погорячился, сказал лишнее. Толстой был прав – как во всех своих житейских отношениях, безукоризнен и, несмотря на кажущийся внешний пыл, внутренне холоден, замкнут и сдержан. А между тем, как это ни странно, виноватый Тургенев производит менее тягостное впечатление в этой ссоре, чем правый Толстой. Тургенев тотчас опомнился и как мужественно, как просто и великодушно извинился. Толстой принял или только хотел принять его извинение за трусость.
«Я этого человека презираю», – писал он Фету, зная, что слова его будут переданы врагу.
«Я чувствовал, – признавался Тургенев, – что он меня ненавидит, и не понимал, почему он постоянно ко мне обращается. Я должен был бы по-прежнему держаться от него в стороне; я же попробовал приблизиться к нему, и это чуть не привело нас к дуэли. Я никогда не любил его. И как я не понял всего этого раньше!»
Казалось бы, все между ними кончено бесповоротно. Но вот, через семнадцать лет, Толстой делает снова первый шаг к Тургеневу, снова к нему «обращается» и предлагает ему помириться. Тургенев тотчас отвечает с радостною готовностью, как будто сам только и хотел, и ждал этого примирения, встречает его, как после долгой невольной разлуки самого близкого родного человека.
И последняя мысль умирающего Тургенева обращена к «другу», к Толстому:
«Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое. Ах, как бы я был счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует… Друг мой, великий писатель земли русской, внемлите моей просьбе!»
В этих словах есть недоговоренный страх за Толстого, безмолвное недоверие к его христианскому перерождению. Толстой ничего не ответил, по крайней мере, перед лицом русского народа, как обратился к нему Тургенев – не ответил ему. И как знать, не уязвило ли его это письмо, исполненное той бесконечной силы правды, которую люди говорят только на краю гроба, больнее, чем какое-либо из их прежних столкновений? Не повторил ли он в тайне сердца своего, с пробудившеюся снова неодолимою ненавистью, с напрасным желанием презрения: я этого человека презираю. Как всегда в тех именно случаях, когда, казалось бы, следует ожидать от него самого великого, правдивого, всерешающего слова, он