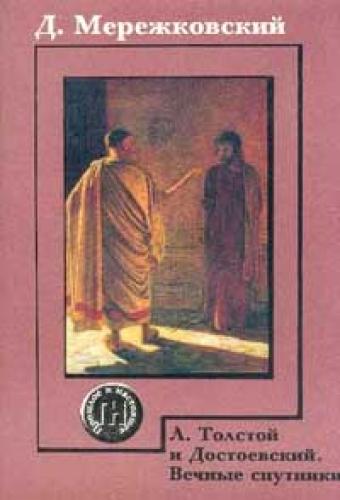Много лет спустя, уже в пору возмужалости, при полном свете сознания, находит он в душе своей тот же самый страх и так же перед ним беспомощен или даже еще более, чем в детстве.
Фету из Гиера, близ Ниццы, 17 октября 1860 года, пишет он о смерти брата Николая:
«20 сентября он скончался на моих руках, в буквальном смысле слова. Никогда в жизни ничто не производило на меня такого впечатления. Он был прав, когда говорил мне, что ничего нет хуже смерти, и если подумать, что в конце концов смерть есть неизбежный конец всего живущего, то приходится сознаться, что нет ничего хуже самой жизни. К чему все заботы, если в конце концов от того, чем был некогда Николай Николаевич Толстой, ничего не остается? Он никогда не говорил, что чувствует близость смерти, и, однако, я знаю, что он следил за нею шаг за шагом и прекрасно знал, сколько времени ему еще остается жить. За несколько минут до смерти он задремал. Вдруг он вскочил и с ужасом прошептал: „Что это?“ Он увидел свой переход в ничто. Но если и он не знал, за что удержаться, что же я найду? Конечно, еще меньше».
В этом письме, удивительном и ужасном своей искренностью, более всего поражает простодушный бессознательный и до последней, цинической грубости обнаженный материализм, бездушная плотскость. Никакого колебания, никакого возможного вопроса и сомнения в том, что смерть есть «переход в ничто», – даже никакой тайны. Ужас безысходный, бесплодный, бессмысленно уничтожающий, иссушающий самые родники жизни. Это как еретики-жидовствующие, русские нигилисты XV века, говаривали: «А что то царство небесное? А что то второе пришествие? А что то воскресение мертвых? Ничего того несть. Умер кто – ин по та места и был». Или, как выражается дядя Ерошка: «Умру – трава вырастет». Глухая стена, русская «глухая нетовщина».
Через двадцать пять лет, уже долго спустя после своего христианского обращения, выразил он это же самое чувство животного, бессмысленного ужаса в «Смерти Ивана Ильича»:
«Он… оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею;…а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть».
Мы знаем, что в течение всей своей жизни, во многих случаях действительной опасности, Л. Толстой отличался мужеством телесным, даже отвагою. Ему был почти приятен свист пуль на страшном четвертом бастионе в Севастополе: он наслаждался тем, что побеждал страх смерти силою жизни. Всего менее думал он также о смерти, когда однажды, в Пятигорской станице, в упор стрелял в бешеного волка, или когда на охоте лежал под медведицею, которая едва не смяла его и не содрала ему кожу с черепа, так что «над глазами лохмотьями висело мясо», и на снегу было столько крови, «точно барана зарезали», а он, поднявшись из-под зверя, забыв раны, не чувствуя боли, только весь трясся и кричал в охотничьей