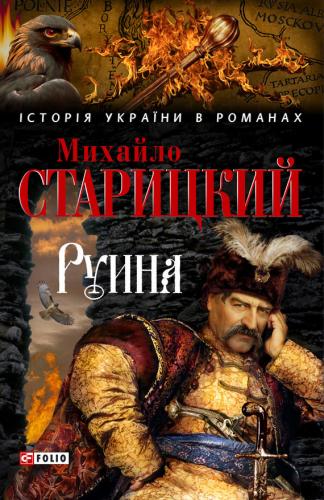– Ох, и караюсь же за него, караюсь! – простонала затворница. – Лучше бы муж убил меня, так нет же, придумал такую муку, какая источила вконец мое сердце… А тот, другой, коханый, и не откликается, оставил меня на поругание… не пытается даже спасти… Забыл, забыл!.. Говорят даже, что женился… или, быть может, нарочно пустил этот слух мой изверг, чтоб доконать уж меня? Ах, когда бы скорей мой конец! Хоть бы зелья достать где-либо, шнурок!.. Какая нудьга здесь, в этом каменном склепе, в этой черной могиле!
Но ничто не откликается на вздохи и стоны несчастной. Толстые стены тюрьмы угрюмо молчат, темная ночь убивает надежду и томительно – тихо ползет.
В это время послышался под полом стук, щелканье ключа, и ляда, приподнявшись, тяжело звякнула железными скобами о половицы; в отверстии показалось сначала мутное световое пятно, закрывшееся потом мрачной тенью, и наконец, в этой келье – тюрьме, тяжело дыша и покашливая глухо в кулак, появилась длинная, тощая, согбенная фигура старой монахини. Черница поставила на пол фонарь, уселась на единственный табурет, торчавший в келье, и долго сидела, молча, обессиленная удушьем.
– Тебя грехи обсели, а я надрывай себя, – проговорила она наконец злобно и закашлялась. – Последние силы трать…
– Да ведь не по моей воле, – отозвалась тихо молодая черница.
– Еще бы! У тебя воли нет и не будет! Натешилась ты ею, и годи! За этакую-то волю тут будешь гнить до смерти, а по смерти кипеть станешь в пекле, в серке пекельной, и не будет тебе пощады ни от людей, ни от Бога!
– Убили бы, задавили бы: мне пекло легче, чем ваши терзания!
– Ага, чувствуешь, – заметила черница. – А на что снова потушила лампаду?
– На что вы масла не даете? Это я буду матери игуменье жаловаться.
– Хе – хе! Жалуйся! Отсюда хоть разорвись, так твоих криков никто не услышит… а сюда мать игуменья не зайдет… А вот за такие слова твои я на тебя эпитимию наложу: и голодом проморю, и жаждою, и на гречихе лежать заставлю, и на горохе…
– Я не раба ваша! – воскликнула узница, грозно поднявшись. – А вы все рабы мои!
– Хе – хе – хе! – захихикала злорадно старуха. – Старое вспомнила? Прошло, минуло! Теперь ты в нашей, или в моей, власти, и что хочу, то и сделаю.
– Не сделаешь! Стоит только мне побороть свое сердце, покаяться перед малжонком, и он простит, простит все, я знаю, потому что любит, а коли простит, – то власть моя, и я растопчу вас ногою! – Глаза у затворницы сверкнули огнем, голос зазвучал властно, а повелительный жест заставил даже присесть злобную досмотрщицу.
Длилась минута молчания. В черством сердце черницы зазмеился было страх, и она