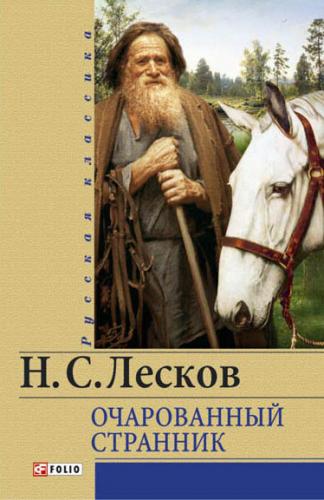– Дурак! вставай, дурак! – крикнула Катерина Львовна, и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.
Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.
Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.
Глава двенадцатая
А вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двунадесятый праздник во всех церквах хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом тоже из любителей вокального искусства.
Наш народ набожный, к церкви Божией рачительный и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, заводов и сами хозяева с своими половинами, – все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пёклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки[2].
В приходской церкви измайловского дома был престол в честь введения во храм Пресвятые Богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.
Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.
– А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают, – заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу, – сказывают, – говорил он, – будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут…
– Это уж всем известно, – отвечал тулуп, крытый синей нанкой. – Ее нонче и в церкви, знать, не было.
– Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни Бога, ни совести, ни глаз людских не боится.
– А ишь, у них вот светится, – заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями.
– Глянь-ка в щелочку, что там делают? – цыкнули несколько голосов.
Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:
– Братцы