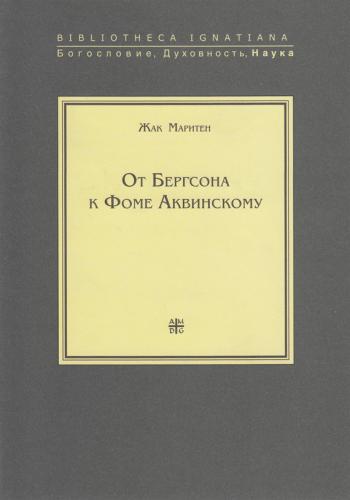От Бергсона к Фоме Аквинскому
Само название этой главы уже ставит проблему и в известном смысле нуждается в оправдании. Не будь Бергсон истинным метафизиком, разве был бы он великим философом и великим духовным новатором? Однако признал ли бы сам Бергсон, что он создал метафизическое учение, предложил современникам некую метафизику? Думаю, нет. Тому есть две причины: это и удивительная скромность Бергсона – конечно же, понимающего свое значение, – и обостренное, щепетильное, чрезвычайно ясное сознание (в двояком смысле – как психологическое самосознание индивидуума и как педантичное научное сознание), с каким он строго держался результатов, которых считал себя вправе ожидать от своего эмпирического метода – метода, связанного с самым умным и самым утонченным эмпиризмом, но в конечном счете радикально эмпирического.
Не успев начать, мы подошли к важнейшему пункту обсуждения. Все содержится во всем, особенно для философии витально-органического и в определенном смысле биологического типа (что, попутно заметим, сближает Бергсона с Аристотелем): невозможно коснуться одной проблемы, не затронув всех остальных. Мы, однако, надеемся, что сможем вести наше обсуждение так, чтобы не говорить обо всем сразу, а располагать свои соображения в надлежащей последовательности.
В те дни, когда я вместе с Пеги и Жоржем Сорелем восторженно слушал лекции Бергсона в Коллеж де Франс, мы ждали от учителя откровения новой метафизики, ведь именно это, казалось, он сам обещал нам.
Но дело обстояло иначе. Бергсон не преподал нам ожидаемой метафизики, у него никогда не было такого намерения. И для многих из нас это стало горьким разочарованием; нам казалось, что обещание, на которое мы полагались, не было исполнено.
Теперь, по прошествии времени, когда я снова думаю об этом, все представляется в другом свете: когда Бергсон своим словом восстанавливал в умах, подавленных агностицизмом или материализмом, ценность и достоинство метафизики, когда он с незабываемой интонацией говорил, обращаясь к людям, воспитанным в духе самого гнетущего псевдонаучного релятивизма: «Мы пребываем, мы действуем, мы живем в абсолютном»[1], достаточно было того, что таким образом он пробуждал в слушателях влечение к метафизике, метафизический эрос: это уже было великое дело. И, быть может, самое сильное впечатление производила та отстраненность, с какой он предоставлял этому влечению, пробужденному в учениках, развиваться своим путем, порой приводящим их к метафизике, чуждой его собственной или даже ей враждебной; он ожидал, что в вопросах более глубоких, касающихся не столько философской концептуализации, сколько духовных направлений в философии, будут подготовлены новые сближения и совпадения.
Если бергсоновская философия никогда до конца не признавалась себе самой в той метафизике, которую она таила, тогда как могла бы громко заявить о ней, если она осталась гораздо теснее прикованной к позитивной науке и более зависимой от нее, чем позволяла предположить ее резкая реакция против сциентистской псевдометафизики, то лишь потому, что сама эта реакция была изначально обусловлена радикальным эмпиризмом. Только собственным оружием науки, принявшей антиметафизическую направленность, только опытом – опытом несравненно более верным и более глубоким – Бергсон намеревался преодолеть ложный культ научного опыта, механистический и детерминистский экспериментализм, выдаваемый вульгаризаторской философией за требование современной науки. По его собственным словам, он верил в возможность философского метода, «строго ориентированного на воспроизведение опыта (внутреннего и внешнего)» и «не позволяющего вывести заключение, в чем бы то ни было выходящее за пределы эмпирических наблюдений, на которых оно основывается»[2]. Эта весьма жесткая формулировка выражает суть интегрального