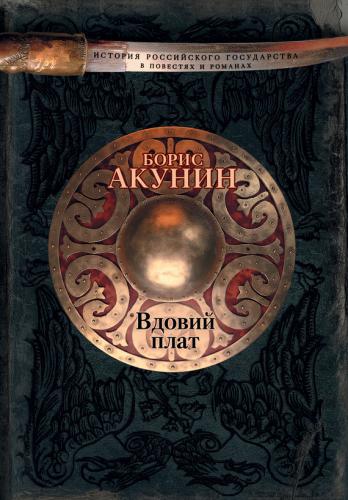Это она напомнила про войну 6979 года, когда Борецкая и ее посадник-сын звали биться с Москвой, а Настасья Григориева уговаривала решить дело миром.
– …Не послушала ты меня тогда, переломила вече на свою сторону – и что? Сколько тысяч народу пропало, и Дмитрий твой головы не сберег. А сделай мы тогда по-моему, откупились бы, перехитрили бы Ивана.
Сверкнув яростными глазами, Марфа перебила:
– Это ты не попустила нас с Псковом замириться! Если бы псковские нам в спину не ударили, не победить бы нас Москве! Я хотела в Псков отправить послом Аникиту Ананьина, он умен и речист, и жена у него псковитянка. Он дело бы сладил! Но твоя свора встала насмерть: с Псковом-де союзничать нельзя, Иван-де от этого еще пуще взбеленится, от Новгорода камня на камне не оставит! Да коли бы тебя тогда за измену на поток поставить, из города прогнать, еще неизвестно, чья бы взяла – низовская или наша!
Настасья подалась вперед, схватилась сильными пальцами за край стола. Ей было что ответить на обвинение в предательстве.
Вдруг Ефимия, всегда тихая и мягкая, как шлепнет ладонью – подскочил хрустальный кувшин с клюквенным взваром, на скатерть полетели красные, будто кровавые капли. Обе ругательницы изумленно обернулись.
– Хватит вам из-за старого собачиться! – прикрикнула на них Шелковая. – Ныне беда идет хуже тогдашней. Иван – хитрая лиса, он не спроста явился. Задумал он что-то. Ему надо одного: лишить Новгород всех вольностей и превратить нас в своих холопов, чтоб мы перед ним на коленках ползали, как его московский народишко. Ныне он, набрав добычи, просто так не уйдет. Он хочет нам хребет переломить, а какой дубиною ударит, мы не знаем. Опомнитесь, женки! После догрызетесь – когда минует гроза. Сейчас нам нужно в три ума думать. Кроме нас никто Новгорода не спасет.
И сошла гневная волна, прокатившаяся от Марфы к Настасье. Сделалось тихо.
– Сон я видела, женки, – сказала Борецкая уже другим голосом.
Настасья поморщилась. Что Марфа на Совете Господ свои сны рассказывает, это ладно, но в малом-то кругу зачем? Вещунья… И дома у нее, говорят, всё псалмы поют, ладан курят, прикармливают калик с юродивыми.
– Что за сон? – спросила вежливая Ефимия.
– Будто чайки над водой летают, а в воде, на самой поверхности рыба плещет, играется, много ее. Чайки вниз падают, выхватят по рыбине – остальные на глубину уходят. Взлетят чайки – рыба наверх возвращается. И снова, и снова.
– Ну и что? – недовольно молвила Каменная. – Такое и без сна увидишь. Выдь вон на Волхов или на Ильмень.
– А то, что сон этот – в подсказку дан, не просто так. Я только сейчас поняла.
Лицо Борецкой осветилось. Она поискала глазами, на что перекреститься, и не нашла – в углу вместо иконы висела картина, на ней какая-то круглолобая немкиня, будто живая.
– Богоматерь? – спросила Марфа.
Шелковая кивнула:
– Мадонна. Я ее из Венеции