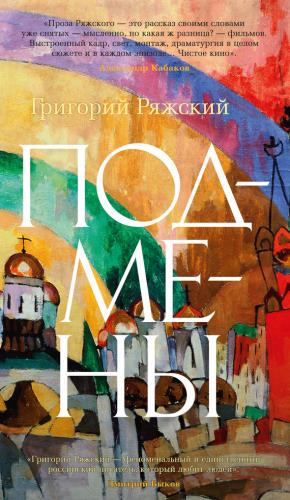– А что, кстати, Анастасия Григорьевна-то говорит насчёт твоей работы? – озадачил Моисей Наумович жену ещё в начале её магазинной карьеры.
Та пожала плечами, то ли не придавая такого уж важного значения материнскому благословлению, то ли, наоборот, удивившись, что у матери с дочкой вообще возможна в этом смысле какая-либо нестыковка.
– Как «что говорит»? Говорит, повезло. И что надо стараться, чтобы двигаться дальше, потому что это направление деятельности во все времена было самым достойным и уважаемым для человека культуры и труда. Мы их культурно обслуживаем, они взамен отдают нам труд. В смысле, зарплату от него. И ничего позорного ни для кого. – Верочка вопрошающе вскинула на мужа глаза и уже на чуть повышенных тонах добавила, верно учуяв, что, вместо круговой обороны, ей лучше расставить предписывающие дорожные знаки. – В конце концов, я же не ящики двигаю и не за кассой горбачусь. Да и не за прилавком хамлю. За мной – учёт и контроль. Ну и материалка на кондитерской секции, временно, для освоения дела. Ничего не поделаешь – ответственность. И я её принимаю какой есть, по всей товарной номенклатуре.
«Князи, мать вашу!» – чертыхнулся про себя Дворкин, понимая, что любое сопротивление или супружеский совет уже не помогут.
Здесь обнаруживалось гораздо более сильное начало, ожидавшее и дождавшееся своего часа. В этом месте наружу выползало уже само исподнее, не стыдясь оказаться быть выпущенным на всеобщее обозрение. И даже более того – откровенно своей демонстрацией довольное.
«А плевать… – передумал он уже чуть потом, постепенно привыкая к мысли, что жена его – магазинщица. – Раз сам ущербный, то чего уж теперь с моста в воду плевать, обратно не потечёт и чище не сделается. Пускай потрудится: в конце концов, может, со временем разберётся, когда от своих же по шапке получит. Главное, чтобы на кафедре не вызнали, иначе – как сотрудникам потом в глаза смотреть? Скажут, раз жена воровка, то и сам недалеко от неё ушёл, ветеран ряженый. И все эти разговоры его про честность и долг преподавателя перед студентом – типичная приспособленческая мишура».
Походя вспоминалось вето, то самое, пожизненное, – метка, спущенная «голубыми мундирами» на его безвинную личность.
«Что ж, раз они с нами так, то мы с ними – вот как! Какие – они, такие, стало быть, и сами мы. Экий у нас, получается, преданный народ в стране немытой рабов да господ, мать вашу. А ещё кровь за этих гнид проливал», – никак не успокаивался Моисей, возвращаясь памятью к предыдущему Девятому мая, ставшему днём скорби и печали по самому себе.
Впрочем, тут же опускал себя на землю, раскаиваясь в словах, не произнесённых вслух, но воображённых; единственная кровь –