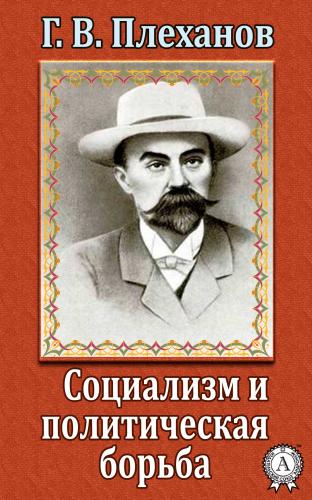Решение поставленной им себе задачи было очень просто и вытекало, если угодно, совершенно логично из экономических учений французского Канта. Прудон никогда не мог представить себе экономического строя будущего иначе, как в форме товарного производства, исправленного и дополненного новой, «справедливой» формой обмена на началах «конституированной стоимости». При всей «справедливости» этой новой формы обмена, она не исключает, разумеется, ни купли, ни продажи, ни долговых обязательств, сопровождающих товарное производство и обращение. Все эти сделки предполагают, конечно, различные договоры, которыми и определяются взаимные отношения обменивающихся сторон. Но в современном обществе «договоры» основываются на общих правовых нормах, обязательных для всех граждан и охраняемых государством. В «будущем обществе» дело должно будет происходить несколько иначе.
Революция должна была, по мнению Прудона, уничтожить «законы», оставляя одни «договоры». «Не нужно законов, вотированных большинством или единогласно, – говорит он в своей «Idee generale de la Revolution au XIX siecle», – каждый гражданин, каждая коммуна и корпорация установят свои особые законы» (р. 259). При таком взгляде на дело, политическая программа пролетариата упрощалась до последней возможности. Государство, признающее лишь общие и обязательные для всех граждан законы, не могло служить даже средством для достижения социалистических идеалов. Пользуясь им для своих целей, социалисты лишь укрепляют то зло, с искоренением которого должна начаться «социальная ликвидация». Государство должно «разложиться», открывая таким образом «каждому гражданину, каждой коммуне и корпорации» полную свободу издавать «свои собственные законы» и заключать необходимые для них «договоры». Если же анархисты не будут терять времени в период «ликвидации», то «договоры» эти будут заключены в духе «Системы экономических противоречий», и торжество «Революции» будет обеспечено.
Задача русских анархистов упрощалась еще более. «Разрушение государства» (занявшее мало-помалу в анархической программе место рекомендованного Прудоном его «разложения») должно было расчистить путь для развития «идеалов» русского народа. А так как в этих «идеалах» общинное землевладение и артельная организация промыслов занимают очень видное место, то предполагалось, что «автономные» россияне демократического происхождения будут заключать свои «договоры» уже не в духе прудоновской взаимности, а скорее в духе