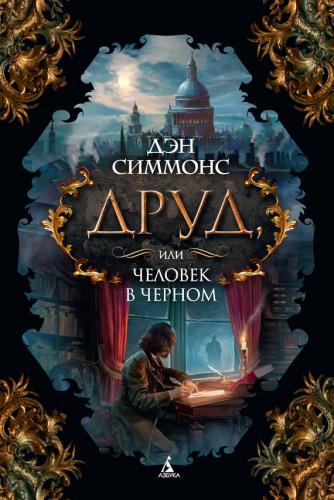Не понимая, о чем речь, но боясь еще раз перебить рассказчицу, я взглянул сначала на Диккенса, потом на Хэчери. Оба они потрясли головой и пожали плечами.
– В один прекрасный день – или ночь – лет двадцать тому, – продолжала Сэл, – Друд напал из-за угла на одного матроса – вроде бы звали того Финн. Но Финн оказался не таким пьяным, как представлялось, и не такой легкой добычей, как думал Друд. Египтянин при разбоях да убийствах орудовал скорняжным ножом – а может, и кривым обвалочным навроде тех, какими пользуются уайтчепелские мясники, что вечно кричат про «превосходный филей отменного качества к завтрашнему ужину, без единой косточки»… Оно и верно, джентльмены и констебль Хиб: когда Друд заканчивал свою работенку в доках, в кошельке у него появлялись деньжата на опиум, а от матросов, чьи выпотрошенные трупы бросали в Темзу, точно рыбью требуху, не оставалось на виду ни единой косточки…
В одной из смежных комнат раздался стон. У меня мороз подрал по спине, но этот замогильный звук отнюдь не являлся откликом на историю старой Сэл. Просто у клиента в трубке выгорело все зелье. Карга не обратила на стон внимания, как и три ее завороженных слушателя.
– Но той ночью, двадцать лет назад, дело не вышло. Финн – коли того малого и вправду звали Финном – оказался не из тех, кого легко посадить на перо. Он перехватил руку Друда, вырвал у него нож – скорняжный ли, обвалочный или какой еще – и оттяпал египтянину нос. Потом он вспорол своего несостоявшегося убийцу от паха прям до ключицы. Да уж, за годы службы на корабле Финн наловчился орудовать ножом, так говорит ласкар Эмма. Друд, рассеченный чуть не надвое, но все еще живой, вопит: «Нет, нет, пощади, не