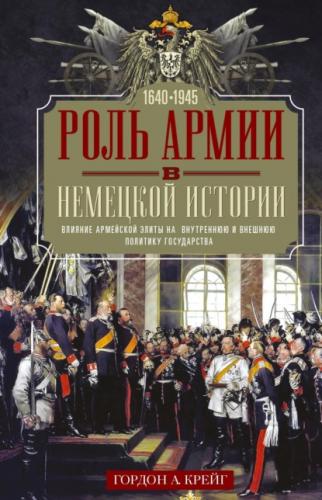Невозможно переоценить значение, придаваемое реформаторами этому аспекту своей работы. В письме, написанном после своего второго увольнения с должности, Штейн настаивал на том, что только союз постоянной армии и национального ополчения придаст актуальность «всеобщей ответственности за службу на войне, обязательной для всех слоев гражданского общества», и добавлял: «Только таким образом удастся воспитать гордый и воинственный национальный характер, вести изнурительные дальние завоевания и национальной войной противостоять сокрушительному нападению врага»129. Взгляды Штейна разделял Герман фон Бойен, корнетом слушавший лекции Канта в Кёнигсберге и впоследствии серьезно изучавший его философию130. Действительно, Бойену национальная армия представлялась «школой нации» будущего, обучающей служивших в ней граждан понятию долга и готовящей их к разумному участию в общественной жизни131. Для того чтобы этого добиться, Бойен уже давно доказывал необходимость отмены жестокой дисциплины в старой армии, и в первую очередь благодаря его влиянию и влиянию Гнейзенау в новых Военных уставах, опубликованных 3 августа 1808 года, отменялись телесные наказания за мелкие дисциплинарные нарушения и создавалась система военной юстиции, защищавшая отдельного солдата от произвола непосредственных начальников132. Новые уставы явно имели целью уменьшить отвращение к военной жизни тех классов, которые в прошлом были освобождены от воинской повинности, но теперь – в случае реформы – служили бы либо в постоянной армии, либо в национальном ополчении. Показательно, что в уставах прямо провозглашалось, что «в будущем каждый подданный государства, независимо от происхождения, будет обязан нести военную службу на условиях, которые еще предстоит определить»133.
Однако короля было легче уговорить подписать столь принципиальные декларации, чем побудить его претворить их в жизнь. В декабре 1808 года, когда комиссия, как уже говорилось, рекомендовала ввести всеобщую воинскую повинность,