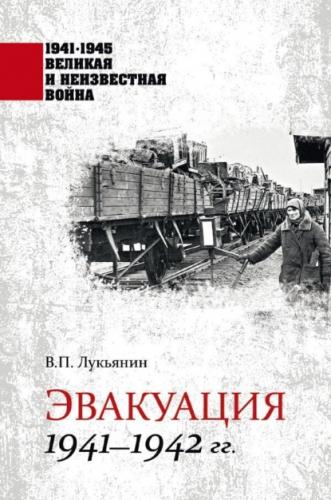Можно хвалить или критиковать советскую военную технику; можно как угодно оценивать уровень подготовки и моральный дух Красной армии и ее командиров, – в любом варианте первой из причин нашей катастрофы на западной границе следует признать внезапность нападения: никто не сомневался, что оно случится, и, тем не менее, оно произошло, когда его не ждали! Это звучит парадоксально, даже неправдоподобно, но это факт. И с первого дня войны этот факт в общем-то для рядовых граждан страны в то время очевидный, использовался для объяснения разгрома Красной армии в первые часы войны: сокрушительный удар противника застал ее врасплох, она просто не успела вступить в бой.
В радиообращении В.М. Молотова, из которого страна узнала о начале войны, нападение Германии оценено как «беспримерное в истории цивилизованных народов вероломство». В тот же день к «пастве» обратился митрополит Сергий, патриарший местоблюститель, – и он тоже говорил о внезапном нападении «фашиствующих разбойников»[14]. Тот же мотив прозвучал и в радиообращении И.В. Сталина к «братьям и сестрам» двенадцать дней спустя: «Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину…»[15] Такая трактовка начала войны, воспроизведенная на столь авторитетном уровне, стала канонической, усомниться в ней на протяжении десятилетий не решался у нас никто.
Между тем один ее аспект с самого начала должен был вызвать вопрос: почему нападение – «вероломное»? Вероломство (проверьте по любому словарю) – это не просто неожиданность, но нарушение обязательства, клятвы. Какое такое обязательство нарушили гитлеровцы? Конечно, у советских граждан лета 1941 года подобный вопрос не возникал: они-то помнили, что менее чем за два года до рокового дня, 23 августа 1939 года, в Кремле был подписан пакт Молотова – Риббентропа – договор о ненападении между СССР и Германией. Вот то действительно было «вероломство»! Даже Черчилль был поражен неестественностью этого альянса: «Антагонизм между двумя империями и системами был смертельным». А уж каким потрясением стал этот дипломатический кульбит для советских граждан: дружба – подумать только – с фашистами, которых перед тем наша пропаганда подавала не иначе как злейших врагов человечества?! Тем не менее ни Черчилль, ни советские коммунисты не усмотрели в этом дипломатическом акте потрясения неких основ: это была достаточно понятная дипломатическая игра с учетом расстановки фигур в геополитическом пространстве предвоенной (такой она уже тогда ощущалась) Европы. То есть, я имею в виду, всерьез эту противоестественную «дружбу» никто не воспринимал, но, когда нападение совершилось, экспрессивное слово «вероломное»