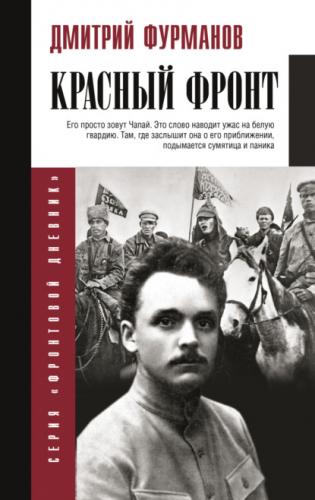«Господи, неужели? Пощади! За что такое горе? Что ты караешь так немилосердно, чем я прогневала тебя? Год с годом все тяжелей, невыносимей. Когда же будет отдых, когда же радость-то будет, придет покой?» И катятся, катятся неутешные слезы. Холодный лоб давно уже не поднимается с полу, грудь тяжело вздыхает и стонет, рыданья глохнут и застывают в тишине. Эх, мать, как тяжело-то тебе!
Поплетутся к заутрене. Быстро, наспех одеваются, торопятся, снуют во все стороны. Собрались, пошли. Еще совсем темно, только огни поблескивают вдали. Раздаст мама детям копеечки, и двинутся… Верно, на кладбище пойдут. Придут, самовар поставят, окружат его. Только грустно будет за этим самоваром. Шура сидит больной, невеселый. Аркаши, Сони и меня нет. Пусто, скучно. И вместо радостных воскресных разговоров будет тосковать и плакать горемычная мать. Все-то она плачет, все-то кого-нибудь жалеет – уж такой, знать, удел материнский. Засиротела наша обильная семья, разлетелись птенцы из теплого гнезда в разные стороны. Придет день. Пойдет мама навестить по обыкновению немногих близких родных. Будут плакать с тетей Машей; она тоже будет поминать любимого сынка, что встречает праздник в холодных окопах на вражьей земле. Всюду нехватка, всюду горе. И куда она ни кинется со своей тоской – всюду навстречу выставят ей горшую тоску, более острое горе. У мамы еще одна тревога, а сколько уж перебито, искалечено знакомого народа! И каждому в эту ночь невольно вспомнится живо и ярко недавно погибший человек.
Эривань
Приехали вовремя, не было еще и двух часов. Ночь была темная; луна все пряталась за облака. По незнакомому городу трудно было бродить впотьмах. Вдали виднелся храм, мы пошли туда. Какие-то огороды, сады, поля. Залезли не то в болото, не то в грязь – постояли, подумали и решили, что не поспеть нам. Пришли домой. И какая это была торжественная, радостная минута, когда все мы собрались у накрытого стола! Тут уже пошло все вверх дном. Появилось вино, коньяк. Настроение привскочило в 5–10 раз. Были бесконечные тосты, поздравления, приветствия. Пили за нашу семью, за нашего спящего врача, за отдельных членов товарищества. Один товарищ все привязывался ко мне и на ухо таинственно шептал:
– Как это там, у Достоевского… за придавленных, за… за бедных. я уж в таком теперь состоянии, что хочется за них, за несчастных.
– За униженных и оскорбленных, – сказал я.
Он обрадовался и хотел было кричать, но его пришлось унять: как-то диссонансом могло прозвучать его пожелание. Другой приятель настолько расчувствовался в патриотическом подъеме, что крикнул: «За здравие павших воинов», – и долго не мог понять, в чем тут ошибся, в чем неточность выражения.
Появилась гитара, мандолина. Загремели любимые песни. Дело пошло ходом. Я после первой же рюмки почувствовал себя гадко и перестал