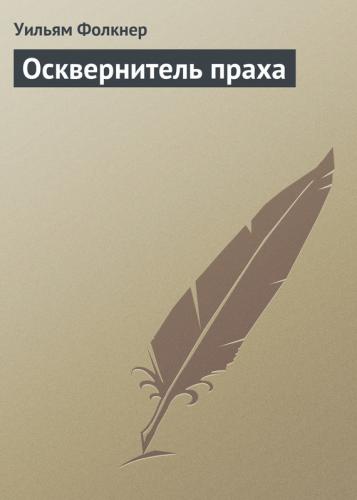– Ах ты, паршивый наглец, сволочь вонючая, скрутить тебе шею, чтоб гнулась, осел упрямый, Эдмондсов сукин сын.
А Лукас дожевал сухарь, проглотил его и, уже нагнув пачку, чтобы вытряхнуть другой, медленно повернул голову, поглядел на белого и, помолчав, сказал:
– А я не Эдмондс. Не из этих новоселов. Я из старожилов. Я – Маккаслин.
– Походи тут еще с эдакой наглой рожей, мы тебя превратим в падаль для воронья! – крикнул белый.
С минуту или по крайней мере полминуты Лукас смотрел на белого человека спокойным, изучающим, невозмутимым взглядом, а пачка сухариков в его руке медленно наклонялась, пока на ладонь другой руки не вытряхнулся еще сухарь, и тогда он слегка вздернул угол рта и, чмокнув, пососал верхний зуб – звук получился довольно громкий среди внезапно наступившей тишины, но в нем не было ничего нарочитого, ни вызова, ни насмешки или хотя бы осуждения, ровно ничего, просто он сделал это почти машинально, как мог бы сделать любой человек, который в полном одиночестве, где-то там за сто миль, жует себе имбирный сухарь и у него что-то застряло в зубе.
– Да, я уж не первый раз слышу такие речи, – сказал он. – И заводят их у нас, как я заметил, даже не Эдмондсы. – Тут белый сорвался с места и, сунув руку на прилавок, за спиной, где лежало с полдюжины рукояток для плуга, не глядя, схватил одну из них и уже замахнулся на Лукаса, но в это время сын хозяина лавки, энергичный молодой человек, выскочил из-за прилавка или, может быть, перескочил через него и схватил белого сзади, так что рукоятка, никого не задев, отлетела вбок и ударилась о нетопленую печь; а тут кто-то еще подбежал и тоже стал удерживать его.
– Уходи, Лукас, – бросил через плечо сын хозяина.
Но Лукас стоял не двигаясь и смотрел совершенно спокойно, даже без тени насмешки, даже и не презрительно, даже не так уж и настороженно, яркая пачка сухарей в левой руке и один маленький сухарик в правой, просто стоял и смотрел, в то время как хозяйский сын и его приятель едва удерживали разъяренного, вырывавшегося с проклятьями и бранью белого.
– Катись