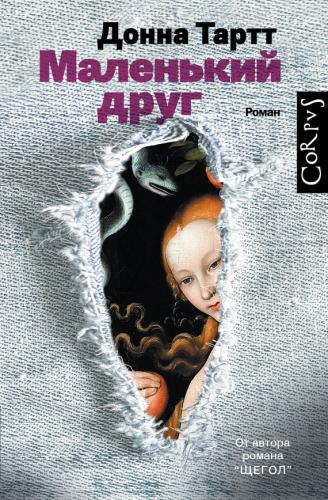Эллисон не помнила брата, не вспомнила она ничего и о его смерти. В детстве, бывало, она часто лежала без сна – в доме все уже спят, а она лежит, разглядывает джунгли теней на потолке и изо всех сил роется в памяти в поисках воспоминаний, но так ничего и не находит.
Милая будничность детства никуда не делась – вот крыльцо, пруд с рыбками, киса, клумбы, все привычное, яркое, незыблемое, но всякий раз, когда она пыталась вспомнить что-то, что было еще раньше, у нее перед глазами возникала одна и та же странная картинка: во дворе никого, по пустому дому гуляет эхо, все ушли совсем недавно, потому что белье развешано, со стола после ланча еще не убирали, а вся семья куда-то делась, пропала, а куда, она не знает, и рыжий кот Робина – не тот вальяжный, мордастый котище, в которого он вырос, а еще совсем котенок – вдруг взбесился, глаза у него остекленели, и он метнулся через весь двор, взлетел на дерево, в ужасе отпрыгнув от нее так, будто в первый раз ее видел. В этих воспоминаниях она сама на себя была не похожа, особенно если воспоминания были из раннего детства. Окружающую обстановку она опознавала с ходу – дом номер 363 по Джордж-стрит, место, где она всю жизнь жила, – но саму себя, Эллисон, не узнавала: вместо нее там был кто-то другой, ни младенец, ни ребенок, так – взгляд, пара глаз, которые оглядывали знакомые места и видели их так, будто за этим взглядом не стояло никакой личности, тела, возраста или прошлого, как будто она вспоминала то, что случилось еще до ее рождения.
Сознательно Эллисон обо всем этом не думала, так, всплывали какие-то бесформенные обрывки. В детстве ей в и голову не приходило, что эти разрозненные впечатления могут что-то означать, а став старше, она и вовсе перестала об этом задумываться. О прошлом она почти не вспоминала и в этом сильно отличалась от своих родных, которые только о нем и думали.
В семье ее не понимали. Но они не поняли бы ничего, даже если б она попыталась им что-то объяснить. В их головах, занятых бесконечным припоминанием того или этого, прошлое с будущим представали повторяющимися сюжетами, и другой взгляд на мир был для них непостижим.
Память – хрупкая, зыбко-яркая, чудесная – для них была жизненной искрой, и с обращения к памяти они начинали почти каждую фразу. “Помнишь, у тебя было батистовое платьице в зеленый листочек? – напирали на нее мать с бабками. – А розовый куст помнишь? А лимонные пирожные? А помнишь, какая замечательная выдалась морозная пасха, когда Гарриет была еще совсем крошкой и вы с ней в снегу искали яйца и вылепили у Аделаиды во дворе пасхального зайчика?”
“Ну да, ну да, – врала в ответ Эллисон, – помню”. И ведь можно сказать, что помнила. Она столько раз уже слышала эти рассказы, знала