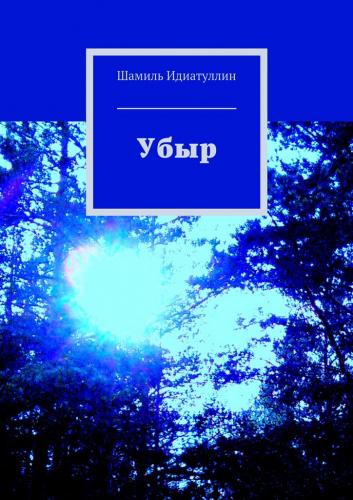– Что, мам? – спросил я, боясь опустить газету и пытаясь сообразить, что такого страшного в этих строчках и звать ли уже папу на помощь или, может, все обойдется.
– Сейчас, – сказала мама, склонив голову.
Ее ладонь сползла на щеку, средний палец оттянул нижнее веко, а указательный легко ковырнул глаз.
Я зажмурился, тут же открыл глаза, пока она себе пальцами совсем глубоко в голову не полезла, и понял, что мама просто снимает контактную линзу – то есть уже сняла и вытирает мокрый глаз. Я хотел отпроситься на кухню, чайник ведь уже вскипел. Но мама, пожмурившись, распахнула веки, зажмурила левый глаз, открыла его и зажмурила правый, снова открыла – а зрачки бегали то по газете, то по моему лицу. Пальцы с прилипшей линзой она держала на отлете.
– Мам, – сказал я, наконец, но она перебила.
– Наилек. У меня, кажется, зрение исправилось.
Обняла меня и заплакала.
На наши вопли набежали Дилька и даже папа, затеребили нас, испуганно выкрикивая «Что? Что?», а папа еще хватал каждого за плечи, разворачивал и быстро осматривал в поисках повреждений. Мама, прерываясь на смех и всхлипывания, все объяснила. Папа сказал что-то длинное и непонятное, постоял на месте, остыв совсем взглядом, вскипел и принялся экспериментировать с газетой.
Тут выяснилось, что зрение восстановилось не полностью – мама видит все-таки хуже меня и папы, но лучше, чем Дилька, у которой, кстати, не настоящая близорукость, а астигматизм, это когда глазное яблоко неправильной формы.
– Было у тебя пять с половиной, да? Ну, сейчас, значит, порядка минус двух, – сказал папа, поразмышляв.
– Рустик, но так же не бывает, – сказала мама тонким голосом.
Папа пожал плечами.
– Значит, бывает. К окулисту сегодня запишись. Пусть посмотрит.
– Конечно.
Папа нежно поцеловал маму, смущенно посмотрел на нас, поцеловал Дильку и меня и сказал:
– Слушайте, люди. А я один так жрать хочу?
Жрать хотели все, поэтому хором ломанулись на кухню – то ли готовить, то ли есть наперегонки. Одна Дилька, диаволически захохотав, заперлась в ванной, ликующе сообщив, что будет долго-долго чистить зубы и никого не пустит. А у нас санузел совмещенный. Но хватило ее диаволизма на три минуты. Прибежала как миленькая и стала ныть, что может хотя бы сыр нарезать.
Толпой, оказывается, все готовится быстрее – даже сосиски сварились мгновенно. И съедается быстрее. А мы давно так не завтракали – все вместе, громко и радостно. Папа, который, между прочим, по утрам не ест – он кофе пьет, ну с бутербродом иногда, тоню-юсеньким, – мёл все подряд, как кит. Мама зато мало ела. Кусочек отрежет, клюнет, – и опять айда щуриться то в окно, то на телевизор. И улыбается. Наконец прыснула и сказала:
– Все время проснуться боюсь.
– Ущипнуть? – деловито спросил папа, рыская глазами по зачищенному столу.
– Да я себе уже таких синяков насажала… Рустик, а почему, а? Как так могло-то?
– Ну,