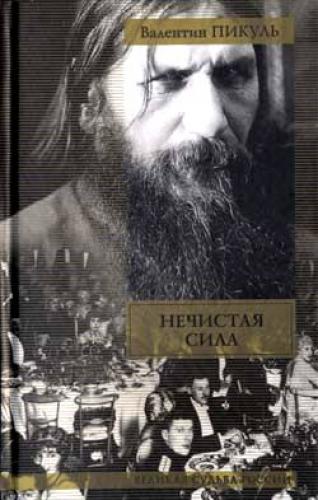Митька причащал царскую чету своеобразно: пожует «святые дары», а жвачку выплевывает в раскрытый рот Николаю II и его супруге. Если уж говорить честно, то Митькины манеры иногда были при дворе утомительны. С детства не приученный посещать клозеты, он, мягко выражаясь, раскладывал кучи по углам. Пойдет фрейлина – и вляпается туфлей! Хотя наклал и «блаженный», но все-таки, согласитесь, не очень приятно… Что же касается Кананыкина, то он, дабы пророческий источник в Митьке не иссякал, ежедневно лупил его смертным боем. Бледная, взвинченная от внутреннего напряжения, с расширенными глазами, вся в мелком холодном поту, Александра Федоровна с неестественным вниманием наблюдала, как возле ее ног катался эпилептик. На губах Митьки, словно взбитый яичный желток, вскипала пузырчатая пена…
Эту пену пронизало розовым цветом – кровь!
Кананыкин перетолмачивал звериное рычанье:
– Тока не пужайся! Родишь кавалера, верь. Да передай хенералам своим, штобы мне на пошив сапог они хрому от казны выдали…
В один из таких «сеансов» с Алисой тоже начался припадок – истерический. Теперь на полу катались уже двое – эпилептик, весь в мыле, и закатившая глаза императрица в голубеньком капотике. На почве сильного потрясения случились преждевременные роды. Держать «пророка» при дворе далее не решились. Гастролеров на казенный счет выслали обратно в козельские палестины. Едва их запихали в тамбовский поезд, как Елпидифор сразу же, без промедления, засучил рукава подрясника.
– Жили при царях, как мухи в сахарнице. Такую жисть потерять – второй раз не сыщешь. Ты виноват… Ну, держись теперича!
Всю дорогу, под надрывные крики паровоза, Кананыкин вымещал на Митьке злобу за горестный финал своей завидной придворной карьеры. В конце концов он так измолотил своего протеже, что Митька не выдержал. Хотя количество «рудиментарных идей» в его башке было строго ограничено, но их все же хватило для понимания того, что надо спасаться. Ночью, когда паровоз брал воду на станции, Митька навзничь вывалился из вагона на землю. Поезд тронулся, разбудив Елпидифора, обнаружившего ценную пропажу.
– Митя-а-а… где ж ты, соколик ясный? Не погуби. Я тебе конфетку куплю. Кажинный день по бутылке лимонаду давать стану. Без меня-то где встанешь, где ляжешь? Пропадешь ведь, стерва…
Митька, однако, не пропал. Нашлась добрая душа, сжалилась над убогим, врачи вернули Митьке слабое подобие человеческого облика, с четверенек его водрузили на ноги, в мычании юродивого стали проскальзывать внятные слова. Митьку сначала пригрела Почаевская лавра, откуда его занесло в Кронштадт, а потом он вновь оказался в столице, где содержался в клинике доктора Бадмаева на субсидиях Александро-Невской лавры как могучий духовный резерв православных клерикалов…
Судьба же его грозного наставника Елпидифора покрыта мраком неизвестности, и босоногая муза истории Клио при имени Кананыкина лишь разводит руками – сама в полном неведении.