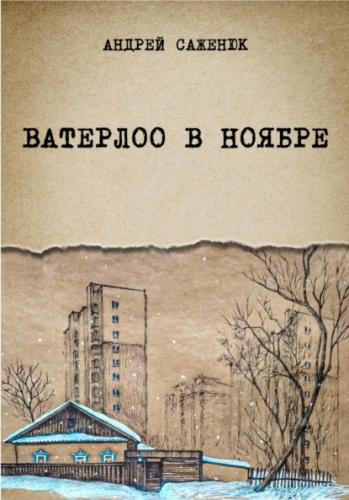– Наверное, тот факт, что ты не присутствовал, не проводил, порождает потом неуверенность, смятение чувств… И человек начинает тешить себя иллюзиями. И чем дальше, тем больше. И с годами все тяжелей.
– Возможно. Однажды мне приснился сон на эту тему. Еду я значит в поезде, выхожу в тамбур покурить, ко мне подходит незнакомец. Говорит: «Вы знаете, а ведь это неправда, что ваш отец погиб. Ваш отец жив, но я сомневаюсь, что вы сможете к нему добраться». Я ему и отвечаю: «А вы не сомневайтесь, у меня высшая группа допуска на самые секретные объекты. Так что это не ваша проблема. Это моя проблема, как добраться. Вы просто назовите мне его адрес». Только он собрался мне адрес назвать, как тут меня жена в бок толкает, говорит: «Что ты лепечешь и лепечешь? Спать не даешь». Очень я был на нее зол.
Тут я и рассказал про Васю и про его мать.
– Каждый решает за себя. Один философ, не помню кто, сказал, что все можно, все разрешено. Но при одном условии. При условии, что ты потом готов за это ответить. Вот твой Вася осознанно не поехал. Ты хотел приехать, но не смог. Смотрел, как ее отпевали по Интернету. Когда умерла моя мама, твоя бабушка, я, как ты помнишь, сопровождал рефрижераторы на Дальнем Востоке. У нас не то что Интернета, у нас почты не было. Вернулся домой через месяц, и тут мне и говорят, что нету больше мамы. Я уж не говорю про войну. Ни могил, ни похорон. Замысел был разблокировать Севастополь, а получилась колоссальная трагедия. В мае 42-го Крымский фронт рухнул. И где теперь могила моего отца? Керченский пролив? Так что, может, и прав твой знакомый. Забыл, как его…
– Вася.
– Вася… Ритуал этот хоть и древний, но довольно бессмысленный.
Фолкнер и Вулф
Брат Толик ушел в армию весной. Понятное дело, первое время скучал по дому, просил меня писать ему почаще. Я отделывался короткими открытками, а осенью ушел сам. В течение года мы служили оба: он – в Сибири оператором ПВО, я – на Дальнем Востоке радистом. Ночные дежурства – лучшая возможность для самообразования. В гарнизонной библиотеке был выбор на любой вкус: тонкие и толстые журналы, русская, советская классика, западные мастера. Среди последних преобладали прогрессивные, те, кто видел и обнажал. Помню темно-зеленые тома Золя, синие – Джека Лондона, светло-серые – Драйзера, бордовые – Ромена Роллана. Однако (и в этом была очевидная недоработка политчасти) попадались как бы заблудшие, потерянные. Были Джойс в «Иностранной литературе», Гессе, Пруст, Фолкнер в «Новом мире». Потерянные интересовали больше. Может, их было по-человечески жаль? Я входил в Северную Америку с юга, от Фолкнера, брат спускался мне навстречу со среднего запада, от Томаса Вулфа. Мы обменивались впечатлениями. На этот год совместной службы приходится самый интенсивный период нашей переписки. Потом Толик демобилизовался, поступил в институт, я остался дослуживать, и роли поменялись: пришла пора мне упрекать его в лени и нежелании чиркнуть брату пару строк.
В конце марта из нас, дембелей, сформировали отдельный взвод, отдали