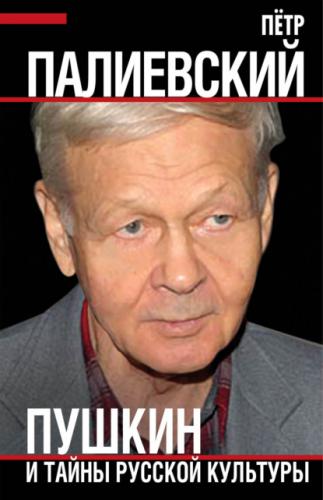Но судить о главном восстановленные крохи все же позволяли. Через Захарово в Пушкина входила другая Россия, располагавшаяся как бы у подножия общества и не допускаемая наверх своей культурой, которая однако существовала не менее тысячи лет и давно сложила свои нормы, – Россия крестьянская. Здесь услышал он впервые голоса этого мира. Деревня была богатой, и в ней, по словам современников, «раздавались русские песни, устраивались праздники, хороводы», звучало прославленное им потом и постоянно приводимое в пример «народное красноречие», В Захарове был приставлен к Пушкину «дядька», зять Арины Родионовны, Никита Козлов, сочинитель «в народном духе» и преданный слуга, проводивший Пушкина до могилы. Бабушка, обладавшая, как вспоминал А. Дельвиг, великолепной русской речью, и няня познакомили его здесь с тем, что составит для него впоследствии важнейшее понятие «предания» (т. е. передаваемой из уст в уста истории, сохранявшейся таким путем живой). К 1823 году эти впечатления впервые сольются у него в одно созвучие эпиграфа из Горация ко второй главе «Онегина»: «О, rus!» (т. е. «деревня» по латыни и «Русь» как нечто единое). Захарово закладывает невидимый фундамент его нового миропонимания, которое поднимется, к удивлению многих в Михайловском.
Таковы были три наиболее заметные силы, участвовавшие в формировании его души.
Они были, конечно, неравноценны, и в разное время оборачивались к нему неодинаково. Существуя вне Пушкина, эти силы слишком мало знали друг о друге, часто вовсе друг другом не интересовались, и каким образом сплавлялись в нем в одну дорогу, мог бы ответить только тот, кто был способен ему в душу заглянуть. Но так как это было невозможно, в детской биографии Пушкина мы встречаем, как правило, свидетельства в наблюдения правдивые, но односторонние. Таким осталось, например, мнение брата: «Вообще, воспитание его мало заключало в себе русского. Он слышал один французский язык, гувернер его был француз» и т. д. Приблизиться к единой правде можно лишь в сопоставлении этих разных свидетельств.
Тем более, что его складывающаяся личность не пропускала в себя чересчур любопытных. В детском поведении Пушкина естественно искали потом черты, из которых развился его гений; но они себя не выдавали, и если в чем-то открывались, то очень осторожно, косвенно, не желая отделяться в росте от других. Внутренний облик маленького Пушкина, судя по всему, что мы знаем о нем, был огражден от вторжений. Ребенок был скорее неподвижен, чем легок и быстр, как в отрочестве и дальше. Единственное, что можно определенно в нем увидеть, – это, что идет сосредоточенное поглощение всего, пригодящегося потом. Наиболее характерный эпизод: напряженное рассматривание,