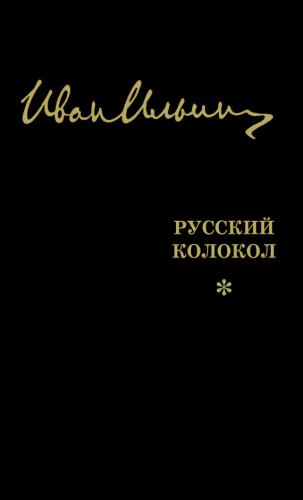Вместе с Вольтером и вслед за Вольтером европейское человечество высмеяло и просмеяло свои святыни. Эта слепая, самодовольная и легкомысленная ирония выдавала себя и принималась за проявление света, за высшую зрячесть. А на самом деле она закрепляла в душах слепоту и религиозную немощь. Это был не только отказ от священного; это был отказ от серьезного и благоговейного подхода к священному. Эта ирония не только отрезала религиозные крылья у человека, но как бы прижигала еще своим едким ядом урезанные места: чтобы крылья и впредь не могли вырасти. Она опустошала мир и душу. И, следуя за нею, человек привыкал считать откровение вымыслом, догмат – предрассудком, молитву – чудачеством или ханжеством. Мало того, он привыкал издеваться над молитвою, над собою, прежде молившимся, но более не молящимся, и над самим Предметом своей бывшей молитвы. Религиозная слепота становилась критерием просвещенности; а жизнь, опустошенная от святыни, становилась подлинным царством пошлости.
Солнце не померкло в небесах. Но ослепшие глаза утратили его образ. Душа поверила, что солнца нет, и погрузилась во внутренний мрак.
От нас зависит выйти из этого мрака наподобие того, как вышел из него евангельский слепорожденный: ибо целительная грязь уже возложена на наши глаза и нам остается промыть их и видеть. В этом религиозный смысл нашего революционного крушения.
Без священного человеку нет жизни на земле, а есть только прозябание, кружение в порочных страстях, унижение и гибель. Что мы без святыни? – прожорливые черви, хищные звери или испуганные овцы… Живое отношение к святыне впервые делает человека – человеком; служение ей – строит его личность и созидает его характер.
Восприятие священного – пробуждает душу к жизни от сонного прозябания; и тот, кто не пережил этого, тот пусть считает себя духовно спящим. Испытать священное и узнать его – значит пережить главное в жизни, такое, чем воистину сто ит жить и за что воистину сто ит бороться и умереть