Схожим образом разделение между гуманистической латынью и средневековой латынью не было таким резким, как представляется по некоторым гуманистическим замечаниям или как гуманистам хотелось бы. Как единого целого, разумеется, средневековой латыни не существует, а есть лишь многочисленные разновидности постклассической латыни. Безусловно, ученая латынь XIII и XIV веков не была стереотипным запутанным монашеским языком эпохи Меровингов; в своих лучших проявлениях она была крайне изящной и классической, и гуманисты иногда были готовы это признать. Соответствующим образом, их собственный латинский язык был несколько менее классическим, чем они думали, – как указали на это цицеронианцы в XVI веке[5]. И, хотя это не обсуждалось широко, многие из их руководств все еще были старыми средневековыми книгами. Они порицали варварский словарь Папия XI века или полную солецизмов грамматику Doctrinale Александра из Вильдьё XIII века, но часто пользовались ими, потому что больше практически ничего не было. В лучшем случае они пользовались теми же позднеантичными грамматиками – Ars Minor Доната и Institutiones Присциана, – что и в Средневековье. Лишь только в 1430‐х, начиная с Elegantiae Лоренцо Валлы, гуманисты стали создавать важные новые руководства в соответствии со своими собственными притязаниями. Даже круг их чтения приводит в замешательство. Дело не в том, что им не хватало нескольких классических произведений, которыми располагаем мы – это положение вещей они энергично исправляли, – а в том, что множество произведений, которые сейчас не представляются нам ключевыми достижениями культуры Античности, были для них очень важны. Библиотека любого гуманиста, скорее всего, содержала в себе довольно большую долю средневековых энциклопедий, произведений позднеантичных риторов, сомнительных
| Автор: | Майкл Баксандалл |
| Издательство: | НЛО |
| Серия: | Очерки визуальности |
| Жанр произведения: | |
| Год издания: | 1971 |
| isbn: | 978-5-4448-2153-1 |
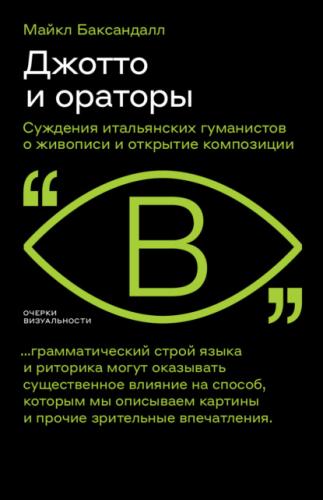
Например, Нозопонус, герой-цицеронианец диалога Эразма