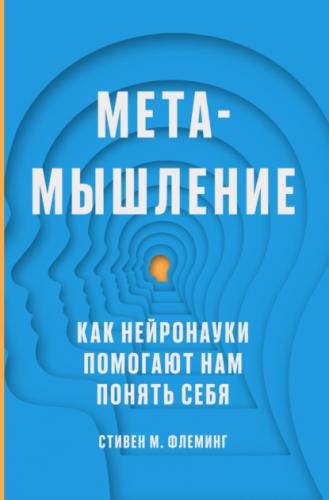Загадка самосознания привлекла меня еще в подростковые годы, когда я заинтересовался книгами о мозге и разуме. Помню, как во время летних каникул, лежа у бассейна, я оторвал взгляд от страницы одной из этих книг и задумался: почему простая активность мозговых клеток в моей голове должна приводить к этому уникальному переживанию – восприятию света, мерцающего на поверхности воды? И что еще важнее: каким образом тот же самый мозг, в котором происходит этот опыт, вообще позволяет мне размышлять о таких вещах? Одно дело – быть сознательным, другое – знать, что я сознателен, и думать о своей сознательности. Голова пошла кругом. Я попался на крючок.
Сегодня я руковожу нейролабораторией по исследованию самосознания в Университетском колледже Лондона. Моя группа – одна из нескольких, работающих в Центре нейровизуализации человека Wellcome, расположенном в элегантном таунхаусе на Квин-сквер в Лондоне[4]. На цокольном этаже нашего здания размещены массивные аппараты для сканирования мозга, которые каждая из групп Центра использует для изучения различных аспектов работы сознания и мозга – как мы видим, слышим, запоминаем, говорим и так далее. В моей лаборатории студенты и постдоки изучают способность мозга к самосознанию. Тот факт, что какой-то уникальный элемент биологического устройства человека наделил нас способностью обращать мысли на самих себя, кажется мне удивительным.
Однако еще совсем недавно все это представлялось бессмыслицей. Как отмечал французский философ девятнадцатого века Огюст Конт, «мыслящий индивид не может разделить себя надвое – одна половина рассуждает, а другая наблюдает. Поскольку если наблюдаемый и наблюдающий орган будут идентичны, как может быть сделано какое-либо наблюдение?»[5]. Иными словами, как может один и тот же мозг обращать свои мысли на самого себя?
Аргумент Конта был созвучен научному мышлению того времени. С наступлением эпохи Просвещения в Европе все более популярным становился взгляд на самосознание как на нечто особенное и непостижимое для науки. Саморефлексию же западные философы использовали в качестве философского инструмента, подобно тому как математики задействуют алгебру для поиска новых математических истин. Опираясь на самоанализ, Рене Декарт пришел к своему знаменитому заключению «Я мыслю, следовательно, я существую», отметив при этом, что «ничто не может быть воспринято мною с большей легкостью и очевидностью, нежели